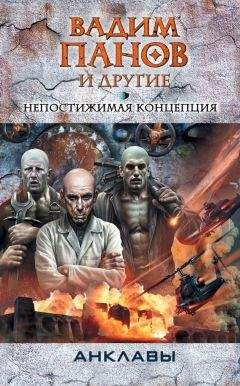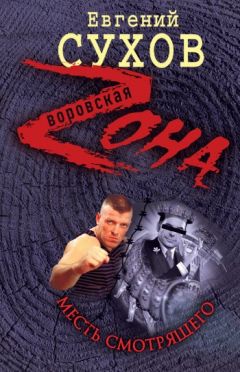Николай Гарин-Михайловский - Том 2. Студенты. Инженеры
— Ах, да, — вспомнил Карташев наказ Сикорского, — надо будет отмечать отказы. У вас есть книжечка?
— Так точно.
— Я вам разграфлю.
— Не извольте беспокоиться: я разграфил уже. Обыкновенно нашему брату, подрядчику, этого дела не доверяют: опасаются, как бы мы свою линию не выводили; бывает так, что и закапывают сваи вместо того, чтобы забивать их, всяко бывает, только наш подрядчик не из таких и нам не велит. Он лучше же лишнего перебьет. До какого отказа, господин начальник, бить будем?
Карташев напряженно вспоминал: «Как это, до двух сотых или до двух тысячных?»
— Ежели, к примеру, — продолжал десятник, — свая ровно пойдет, так и в три сотки отказ будет ладный.
— Нет, все-таки до двух бейте.
— Как прикажете.
И, повернувшись к рабочим, десятник сказал:
— Ну, готовы, что ли? Это еще что? — точно не понимая, в чем дело, спросил десятник.
От рабочих закоперщик с шапкой в руках подходил к Карташеву.
— Имеем честь поздравить вас с благополучным началом.
— Ну, народ, — неопределенно качнул головой десятник, наблюдая Карташева, и, увидев, что Карташев достал десять рублей, сказал весело: — Ну, смотри, ребята, старайтесь да благодарите господина начальника.
— Благодарим! — дружно и весело отозвались рабочие.
— Поднимай бабу!
И баба под красивый припев речитатива: «Расчестная наша мать, помоги бабу поднять!» — стала подниматься вверх, а закоперщик уже опять затягивал:
Эй, ребятки, не робейте,
Своей силы не жалейте.
После второго залога десятник, приподняв шапку, обратился к Карташеву:
— Дозволите ли веселые песни петь?
— Конечно.
— Работа пойдет у них веселей: валяй, ребята!
Лица рабочих светились лукавою радостью, и только закоперщик с бесстрастным лицом, все тем же замогильным глухим голосом выводил:
Инженера мы уважим,
По губам — помажем.
И восторженно подхватила артель дубинушку, заметив, как залилось краской до корней волос лицо смущенно-растерянно улыбавшегося Карташева.
К обеду возвратились в Заим и Карташев и Сикорский. Карташев сделал Сикорскому обстоятельный доклад.
— Только одно неправильно — никогда вперед обреза не давайте. На этом и строятся все мошенничества. Поезжайте после обеда опять и уничтожьте обрез. Когда кончат забивку, пусть и позовут тогда. А что касается того, чтобы вести журнал забивки свай, то сегодня приедет десятник еще.
XVI
Работы наладились, и все пошло изо дня в день.
Карташев ездил в дальнюю сторону дистанции, Сикорский взял на себя более короткую, так как на нем, кроме технической стороны дела, лежали и распорядительная и административная части. Постоянно приезжали из города, привозили материалы, запрашивали срочно по телеграфу, и ему необходимо было, как он говорил, быть всегда на ружейный выстрел от конторы.
Все делалось с какой-то сказочной быстротой, и быстрота эта все возрастала; установились и ночные работы.
В каждом месте линия кишела рабочими: забивали сваи, сыпали насыпи, копали выемки, тянулись обозы с вывозимою землею, лились песни, крики, громкий говор. Узкая полоса земли на протяжении двухсот восьмидесяти верст жила полной жизнью безостановочно все двадцать четыре часа в сутки.
Ночью эта лента была сплошь огненная от костров. Уже провели телеграф, и в Заиме сидела телеграфистка.
Смены ей не было; и ночью и днем она должна была принимать телеграммы.
Еще молодая, с терпеливыми, все выносящими глазами, сидела она в минуты отдыха на завалинке своей избы, курила и смотрела равнодушно вдаль, туда, где кипела работа.
Карташев жил в избе рядом. В четыре часа он уже выезжал на линию.
В тележке лежали инструменты и холодный завтрак.
Уезжал он на весь день и возвращался домой часам к десяти.
Иногда надо было зайти еще в контору к Сикорскому. Иногда и ночью необходимо было ехать вторично на линию. Суток не хватало. В каждом месте, в каждой точке уже ждали, нетерпеливо ждали Карташева с разбивкой, с отметкой, с вопросами, без решения которых дело останавливалось. Получалось такое впечатление, что все везде стоит и виновник этому только он, Карташев.
Это тяготило, мучило, угнетало, и Карташев почти не выходил из подавленного и в то же время напряженного, крайне неприятного состояния от сознания, что никогда ему не поспеть везде вовремя.
Его лошадь начала портиться.
Вначале она ходила рысью, но чем дальше, тем больше теряла бедная Машка силы.
Давно исчезла округленность ее форм, блеск ее шерсти.
Ее худая, теперь острая спина поднялась кверху, шерсть болезненно торчала во все стороны, грива была спутана, сбита, а сама она точно потеряла всякую способность понимать, где дорога, где овраг. Прежде, бывало, хоть домой она бежала. Теперь же одинаково равнодушно, несмотря на все удары, шла все тем же заплетающимся шагом.
И это еще более раздражало и угнетало Карташева. Но когда однажды Машка отказалась и таким шагом идти, когда она беспомощно остановилась и, несмотря на всякие понукания, не хотела идти дальше, Карташев, которого во всех местах ждали, как манну с неба, пришел в такое отчаяние от своей собственной несостоятельности, от несостоятельности Машки, что расплакался.
В таком положении и застал Карташева Сикорский, несшийся на своей жениховской тройке.
Карташев торопливо уничтожил следы слез, а Сикорский сделал вид, что их не заметил.
— Ну, сегодня я за вас распоряжусь, а вы поезжайте домой и сейчас же купите вторую лошадь. Необходимо ездить на сменных лошадях.
— Она и домой не пойдет.
— Дайте овса ей.
— Нет у меня овса.
— Ну, так чего же вы хотите? Человек восемнадцать часов ездит и не кормит лошадь. Обязательно надо брать торбу с овсом. Доехали до конца дистанции, надели на нее торбу, сами закусили и поехали назад. А теперь что же делать? Выпрягите ее и пустите попастись по этой траве.
Сикорский уехал, а Карташев выпряг Машку, пустил ее на траву, а сам, сидя на тележке, ел свой хлеб с колбасой и грустно-бессильно смотрел туда вдаль, где кипела работа, где ждали его, в то время как он должен был пасти свою лошадь.
В этот день Карташев возвратился домой в неурочное время, когда солнце было еще высоко в небе.
Продажная лошадь оказалась у хозяина, в избе которого жил Карташев.
Выйдя из своей телеграфной конторы, — она же и спальня, — телеграфистка тоже, присев на завалинке, смотрела, как Карташев пробовал лошадь, и с своей стороны сделала несколько замечаний, обнаружив некоторые познания по этой части.
Между нею и Карташевым завязался разговор, и оказалось, что она дочь мелкого херсонского помещика.
Карташев, чувствовавший себя в общем не лучше Машки, хотел было воспользоваться отдыхом и лечь спать, но начавшееся знакомство отвлекло его, и, сидя устало на завалинке, он дотянул до вечера в разговорах с телеграфисткой.
Она была некрасива, почти необразованна, но было в ней что-то симпатичное, беззащитное и, наконец, молодое — в улыбке, взгляде, в бессознательных движениях. Было интересно будить это молодое.
Общее положение заморенных, работающих через силу людей, при походной жизни, при сознании, что очень скоро все это кончится и в свое время, как и все, унесет невозвратное будущее, еще больше сближало, примиряло, заставляло торопиться.
Высоко в небе, как заброшенный маяк, ярко светила луна.
Белая колокольня, белые избы рельефно и неподвижно стояли, и от них падала густая черная тень. В ярком ослепительном воздухе, как серебро, сверкала на воде полоса лунного света.
Было свежо, телеграфистка куталась в платок и курила.
Карташев устало сидел рядом с ней.
Гулко звонили часы на высокой колокольне, и ему было хорошо и уютно около простой доброй девушки полуспать, полубодрствовать, наслаждаясь волшебной красотой ночи.
— Вы спите совсем, — положите на плечо мне вашу голову.
И Карташев положил.
— И холодно вам, вот вам половина моего платка.
Пришлось сесть плотнее под одним платком.
Так и сидели они, изредка перебрасываясь словами, не замечая, как идет время.
Все так же неподвижно светила луна с своей бесконечной высоты, так же стояли настороженные белые хатки, и лунный свет играл в воде.
Какой-то особый сон наяву владел душой. Они не помнили, как обнялись, как поцеловались, как очутились вдвоем на ее узкой постели, как уснули обнявшись, прикрытые ее платком, единственным теплым, что было в ее скудном багаже.
А в четыре часа Карташев осторожно, чтобы не заметили, пробирался в свою избу.
Но на завалинке уже сидел Тимофей, и смущенный Карташев чувствовал, что Тимофей обо всем догадался.