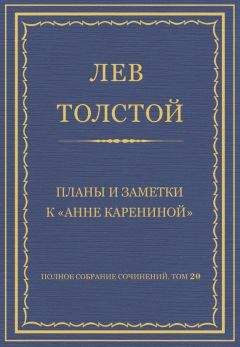Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 20. Варианты к «Анне Карениной»
– Нѣтъ, – сказала Кити, слегка покраснѣвъ, – очень можетъ быть, что она такъ поставлена, что не можетъ безъ униженья войти въ семью, и неужели ей выдти за перваго замужъ?
Онъ понялъ ее съ намека.
– О да, – сказалъ онъ, – чѣмъ самостоятельнее женщина, тѣмъ лучше.
Онъ понялъ все, что ему доказывалъ Юрковъ только тѣмъ, что видѣлъ въ сердцѣ Кити страхъ дѣвства и униженья, и, любя это сердце, онъ почувствовалъ этотъ страхъ и униженье и былъ согласенъ.
Въ это самое послѣобѣда это взаимное пониманіе ихъ другъ друга получило еще странное и поразившее ихъ обоихъ подтвержденіе. Они сидѣли у стола, она все играла мѣлкомъ, глаза ея блестѣли страннымъ и тихимъ блескомъ. Онъ, подчиненный ея настроенію, чувствовалъ во всемъ существѣ своемъ счастливое напряженіе.
– Я давно хотѣла спросить у васъ, – сказала она, – чертя мѣломъ.
– Пожалуйста, спросите.
Она взглянула на него вопросительно и долго.
– Вотъ, – сказала она и написала начальныя буквы французской фразы.
Онъ посмотрѣлъ пристально, съ тѣмъ видомъ, что жизнь его зависитъ отъ того, пойметъ ли онъ эти слова. Изрѣдка онъ взглядывалъ на нее. «То ли это, что я думаю? Если да, то лицо ее должно имѣть серьезное выраженіе». Но лицо ее, прелестное, улыбающееся лицо, говоритъ, что минута эта важная и торжественная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и скрываетъ что-то.
Долли утѣшилась совсѣмъ отъ горя, произведеннаго ея разговоромъ съ Алексѣемъ Александровичемъ, когда она увидала эти двѣ фигуры – Кити съ мелкомъ въ рукахъ и съ улыбкой какой то счастливой до смѣлости, глядящей на него, и его красивую фигуру, нагнувшуюся надъ столомъ, съ[1282] горящими глазами, устремленными то на столъ, то на нее. Онъ вдругъ просіялъ, онъ понялъ. Онъ понялъ, что она спрашивала его: «когда вы послѣдній разъ были у насъ, отчего вы не сказали, что хотѣли?» Онъ взглянулъ на нее вопросительно робко. «Такъ ли?» «Да», отвѣчала ея улыбка. Онъ схватилъ мѣлъ напряженными, дрожащими пальцами и написалъ, сломавъ мѣлъ, начальныя буквы слѣдующаго: «Хорошо ли я сдѣлалъ, что тогда не сказалъ то, что хотѣлъ». Она облокотилась на руку, взглянула на него.
– Хорошо, – сказала она. – Но постойте, – и она написала длинную фразу.
Онъ сталъ читать и долго не могъ понять, но такъ часто взглядывалъ въ ея глаза, что въ глазахъ онъ понялъ все, что ему нужно было знать. И онъ написалъ три буквы. Но это было слишкомъ понятно. Онъ стеръ их и написалъ другую фразу. Но онъ еще не кончилъ писать, какъ она читала за его рукой и сама докончила и написала вопросъ.
– Въ Секретаря играете, – сказалъ Князь, – подходя. – Ну, поѣдемъ однако, если ты хочешь поспѣть въ театръ.
Левинъ всталъ и проводилъ Кити до дверей.[1283]
* № 103 (рук. № 43).
«Дать пощечину и убить, – повторялъ себѣ Алексѣй Александровичъ слова Туровцина, – потому что больше дѣлать нечего». И странно, какъ ни твердо онъ былъ убѣжденъ, что это глупо, эта мысль преслѣдовала, и онъ одинъ, самъ съ собой, краснѣлъ, и ему было стыдно, что онъ не сдѣлалъ того, что было глупо.
Слова же Дарьи Александровны о прощеніи онъ вспоминалъ съ отвращеніемъ и злобой. «Нужно дѣлать что слѣдуетъ», сказалъ онъ себѣ.
Адвоката еще не было, и лакей Алексѣя Александровича, ушедшій со двора, еще не возвращался.
Алексѣй Александровичъ прошелъ къ себѣ и, взявшись за бумаги, приготовилъ все, что нужно было передать адвокату. Когда адвокатъ явился, Алексѣй Александровичъ[1284] сообщилъ ему, что онъ окончательно рѣшился на начатіе дѣла и проситъ его приступить къ исполненію необходимыхъ формальностей. Онъ сѣлъ къ столу и взялъ свои выписки. Но тутъ лакей Алексѣя Александровича вошелъ въ комнату.
– Что ты?
– Двѣ телеграмы. Извините, Ваше Превосходительство, я только вышелъ.
– Извините, – обратился Алексѣй Александровичъ къ адвокату и взялъ телеграмы: одну – это было извѣстіе о назначеніи Е. въ Польшу. Алексѣй Александровичъ открылъ другую. Телеграма карандашемъ синимъ, перевранная, какъ всегда, говорила: «Москва, Дюсо, Алексѣю Алабину».[1285] Подпись была. Анна. «Умираю. Прошу, умоляю пріѣхать. Умру съ прощеніемъ спокойнѣе».[1286]
– Извините меня, – сказалъ онъ адвокату, – я долженъ ѣхать въ Петербургъ.
Адвокатъ вышелъ. Алексѣй Александровичъ взглянулъ въ газету о времени отхода поѣздовъ и сталъ ходить по комнатѣ. «Но правда ли?[1287] Нѣтъ обмана теперь, передъ которымъ она бы остановилась.[1288] Да, она должна родить.[1289] Да, роды.[1290] Отъ него должна родить. Дать пощечину и убить, но надо ѣхать».
– Петръ, я ѣду въ Петербургъ.
На другое утро онъ уже въ раннемъ туманѣ Петербурга съ чувствомъ нечистоты, усталости и раздраженія дороги, уже проѣхавъ пустынный Невскій, подъѣзжалъ къ своему дому на Владимирской. На мостовой лежала солома, у подъѣзда стояла извощичья карета.
Какъ всѣ люди рѣшительные и спокойные, Алексѣй Александровичъ, обдумавъ разъ свое положеніе и предстоящую ему дѣятельность, уже не думалъ о томъ, что будетъ. Во всякомъ случаѣ, онъ рѣшилъ, что увидитъ ее. Если это обманъ, онъ промолчитъ и уѣдетъ навсегда изъ дома. Если она дѣйствительно желаетъ его видѣть передъ смертью, онъ[1291] утѣшитъ ее.
<Но во 2-мъ случаѣ опять могло быть два случая. Она умираетъ и раскаивается и умретъ,[1292] тогда онъ возьметъ ея ребенка и воспитаетъ его съ своимъ и[1293] ему скажетъ и, если нужно, угрозой добьется того, чтобы онъ не попадался ему на глаза. Но если она раскаивается, онъ проститъ ее и она не умретъ? Тогда онъ, простивъ ее, возьметъ ее и постарается, по совѣту Долли, спасти отъ погибели и увезетъ изъ Петербурга. Этаго предложенія онъ не разрѣшилъ, этаго не могло быть.>[1294]
* № 104 (рук. № 43).
<Съ этой поры кротость, спокойствіе, заботливость о больной, о дѣтяхъ и ясность отношеній со всѣми были таковы, что никого не удивляла роль Алексѣя Александровича: ни доктора ни Акушерку, ни людей, ни друзей и знакомыхъ. Съ точки зрѣнія свѣта.
Любовникъ былъ тутъ всегда, и мужъ былъ здѣсь, и мужъ заботился о томъ, чтобы любовнику была постель, когда онъ оставался ночевать.[1295] Видѣвшіе это, удивлялись и ужасались тому положенію, въ которое поставилъ себя Алексѣй Александровичъ, но, видя его, находили это простымъ и естественнымъ.
Анна Аркадьевна стала поправляться. Она тоже какъ бы забыла о томъ положеніи, въ которомъ были мужъ и любовникъ. Она видѣла того и другого порознь и вмѣстѣ у своей постѣли. Разговоровъ не было никакихъ, кромѣ общихъ.
Но за день благополучнаго кризиса она, увидавъ Алексѣя Александровича и Удашева вмѣстѣ, вдругъ,[1296] велѣвъ подать ребенка, покраснѣла и заплакала.
Въ этотъ вечеръ Алексѣй Александровичъ пришелъ къ ней и спросилъ, не хочетъ ли она, чтобы онъ уѣхалъ?
– Нѣтъ, ради Бога не оставляйте меня.
– Такъ я скажу, чтобы Удашевъ уѣхалъ.
– Да, да, какъ ты понялъ меня. Позови, я сама скажу ему.
Алексѣй Александровичъ сказалъ Удашеву, что онъ совѣтуетъ ему не пріѣзжать больше, съ мѣсяцъ, до совершеннаго поправленія.
– Неужели все кончено, – сказалъ онъ прощаясь.
– [1297]Да, лучше. Но пріѣзжай черезъ мѣсяцъ, когда я буду въ силахъ, я тогда скажу все.
Онъ уѣхалъ. Черезъ мѣсяцъ онъ пріѣхалъ. Она поцѣловала его руку, онъ поцѣловалъ ее. Она закричала:
– Уйди! уйди! Нѣтъ, поздно. Ахъ, Боже мой, зачѣмъ я не умерла!
Алексѣй Александровичъ ходилъ по залѣ. Когда онъ вышелъ, онъ пошелъ къ женѣ. По взгляду на ея стыдъ онъ понялъ и ничего не сказалъ. Весь вечеръ Удашевъ пробылъ; пріѣхалъ на другой день. Алексѣй Александровичъ перешелъ въ кабинетъ. Удашевъ цѣлые дни проводилъ у нее. Алексѣй Александровичъ опять сталъ ѣздить на службу. Часто, приходя на ея половину, онъ дѣлалъ распоряженія объ удобствахъ для дѣтей, для нее и любовника.>
* № 105 (рук. № 44).
«Вы можете затоптать въ грязь», слышалъ онъ слова Алексѣя Александровича и видѣлъ его предъ собой и видѣлъ прелестное съ горячечнымъ румянцемъ и блескомъ глазъ лицо Анны, съ нѣжностью и любовью смотрящее не на него, а на Алексѣя Александровича. Онъ опять вытянулъ ноги и бросился на диванъ въ прежней позѣ. Но и съ закрытыми глазами онъ видѣлъ лицо Анны, такимъ, какое оно было въ одинъ памятный вечеръ до скачекъ. Она была покрыта платкомъ и, сдѣлавъ ширмы съ обѣихъ боковъ лица, смотрѣла на него изъ этой глубины.
И одна за другой вспомнились, съ чрезвычайной быстротой смѣняясь одно другимъ, воспоминанія о счастливѣйшихъ минутахъ, перемѣшиваясь съ воспоминаніемъ своего униженія передъ простотой мужа. Онъ все лежалъ, стараясь заснуть, хотя чувствовалъ, что не было ни малѣйшей надежды. Но онъ боялся встать.[1298]