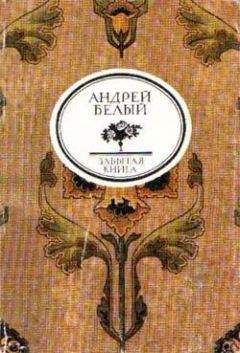Андрей Белый - Том 1. Серебряный голубь
У отца
Сын. Отец: ты — отец. Ты меня родил. Я никого не рождал, потому что я ушел от изначального. Я ушел от тебя, я учился, страдал; и виденья мои были чисты. Мне, отец, открывались новые горизонты.
Отец. Да, я — отец. Я тебя породил, и я никуда не уходил; где был вначале, там и остался. Я все в том же старинном доме; и поместье мое все то же. Я рождал: я жил с твоей матерью. Потом я жил с бабами и девками нашей деревни, рождая. Я окружал себя курами, петухами, индюками. У меня птица несет яйца десятками в день. Но я ничему не учился, никогда не страдал. Горизонты у меня те же, о, те же. Кругом разбежались пространства, старинные, воистину русские, все те же.
Сын. Но ты занимаешь в этих пространствах все больше, места: ты, отец, потолстел; тебе к животу пора подвязывать тачку. Ты был моим врагом. Ты хотел меня оставить на родине; ты препятствовал моему познанию истины, и я от тебя бежал. Но теперь я к тебе вернулся на излечение. Я хочу у тебя взять здоровья.
Отец. Да, сын; я пухну — скоро мир вместится во мне и буду я отцом моего мира, а ты — его сыном. Но не отдам я тебе познания моих богатств, хотя конторские книги по имению в порядке. И здоровья моего я тебе не верну. Мое здоровье от правильной жизни; у меня любовная связь с кухаркой; и она — душенька: душа всего, что у меня есть. Но для чего ты ко мне вернулся?
Сын. Там, за границами, твоих владений, в большом мире, в ином, я был словом о жизни новой, но я не построил им жизни; они испортили все мои начинания. И я взял от них свои надежды; безнадежный темный мир небытия теперь за границей твоих владений. Я его не вижу, значит, нет у меня иного мира, кроме родного мира, изначального. Этот мир есть мир деревенский твоя усадьба.
Отец. Сын мой, в тихом пристанище тихо живи — опрокидывай рюмки, плодись и множься и во всем слушайся отца.
Сын. Я пришел не за тем. Я пришел, чтобы начать с малого. Я покину твой мир только тогда, когда проведу реформы в нашем хозяйстве. Новая жизнь воцарится у нас. Тогда я вернусь, откуда ушел.
Отец. Мой сын, мой больной, мой измученный: я тебе отведу детский твой флигелек. Я выпишу доктора, и мы вернем тебе здоровье.
Сын. Отец, я не болен: твои козни начались, но мы еще поборемся.
И они вышли в сад. Старый помещик заботливо обнимал сына. Гроздья сирени клонились. Пели птицы. Никто бы не сказал, было ли произнесено. что было произнесено. Пробежала экономка, крикнув: «Индюшечки-то у нас начали падать». Толстый старик подозрительно поглядел на сына. За ужином все были мертвецки пьяны.
Флигелек
Серо-пепельный халат толстяка отца бросил неверную тень на Адама Антоновича; в замкнутом были они флигельке, точно в замкнутом мире. Адам Антонович знал, где он был, что он делал. Старик ширкал туфлями, а кухарка, душенька, мыла тарелки; старик выкурил трубку и остался доволен. Когда ловил за ус таракана, пробегавшего по столу, неслись будто громы и гласы из его рта: «Плодитесь, плодитесь, канальи — хе, хе!»
Поглядел на здоровую, румяную, златокосую кухарку и сказал: «Здесь не житье, а рай». Когда вышел, довольный собой, кухарка прыснула смехом, довольная собой, и изогнула свой полный стан над Адамом Антоновичем: «Мы теперь одни: бери меня — невмоготу мне со стариком-то». Вместе полезли в кухне на печь. Адам Антонович знал, что делал: он спасал человечество. Но зловеще-мертвенный лик отца уж торчал из-за двери: «Адам-то, сын-то наш, падает — падает… А-а-а-а!» И больно приколотил Адама Антоновича.
В каморке была знойная мгла, и Адам, повитый мухолетом, катал шарики из хлеба, трудясь в поте лица своего. Он знал, что делал: он спасал человечество под хохот и возню возившегося старика у кухарки за перегородкой. Потом старик давил тараканов: «Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий — довольно: тараканов залью». И, открывая водопроводный кран, швырнул Адаму жестяную ванну: «Сиди в ней и плавай». И раздалось струй сонное лопотанье: «Ша-а-а»… Сидел и плавал в ванне Адам Антонович: он знал, что делал — спасал человечество.
Отец Адама Антоновича был толстенный самодур с тройным подбородком и щелками вместо глаз. Всю жизнь копил деньги. Под старость разменял их на пространства: поместья его росли; росли и пухли. С той поры он завел себе кухарку и говаривал ей: «Ты моя душа — душа всего у меня: душа моего мира». Злые языки поговаривали, что сын отобьет у отца его душу, вступив с ней в новую связь. Старик сам сознавал ужас своего положения и зачастую говаривал: «Подрастает у меня сын — болван Адам. Он у меня все отобьет». Уж крестьяне косились на старика с сухостью, полной достоинства; говорили друг другу: «Будет у нас новый барин, сынок». И неслась новая весть, благая всем, об Адаме Антоновиче.
Адам Антонович, сидя во флигельке, смутно понимал; он знал, что делал — помогал крестьянству. Вот тупо уставился в бледно-серую кухаркину юбку, испещренную пятнами. «А ну-ка, душа моя, вымой мне ножки: здесь я посиживал; теперь я знаю, что я ваш барин». Кухарка взглянула на него, тупо сосредоточенная, и стала мыть ноги; ухмыльнулась: «Папенька-то ваш бежит — бежит в могилу». И Адам Антонович, новый барин, новые изрекал заветы: он знал, что делал — водворял порядок, спасая малое, чтоб через малое спасти и большое, потому что только он перешел черту, только он знал, что пришла пора — крайняя пора.
Притащился пес, барбос, помочившись на дворике, и воссел на него верхом Адам Антонович. И им: потащил его на двор. И на дворе сидел на псе Адам Антонович, водворяя правду свою: знал, что делал.
Схватили его сельские стражники, привели к старику отцу. А отец: «Эпидемия: мутит сын деревню: зараза — все под Богом ходим. Гаврюха, Филя, дуралеи, говорю вам, посеките сынка. Сыновние обязанности должны быть соблюдены всюду». И посекли его плетьми: «Аш-шаш: пять, шесть… Аш-шаш: десять, двадцать». Потом положили и постель, как во гроб; перин, как камней, напилили ниц ним бледно-душных, мертвенно-немых. У изголовья Адама Антоновича можно было видеть кухарку: согбенная, старообразно они припали к нему жутко-сиротливым силуэтом и голосила, а он, будто с перепоя, все косил; но отпилил перины, руки протянул к кухарке; встал в кальсонах да в сорочке, пошатываясь: «Я восстал с одра: не будьте, душенька, слепы».
Кухарка толкала икавшего с перепоя Адама Антоновича: «Барин, проснитесь».
Кряхтя и вздыхая, уселся он на постели; да это был только сон, и он еще не проговорился, зачем он приехал. Вчера ночью он приехал к отцу, и отец тут же его напоил: о, как бы утаить, как бы не проговориться! Он знал, что делал: он спасал человечество. Адам Антонович Корейш склонил над ночным столиком свое бледное, бледное, бледное лицо с усталыми, подслеповатыми голубыми глазами — и вскинул ловко на нос пенсне, склоняясь над трактатом по финансовому праву. «Позвольте, барин, открыть ставню?» Не ответил — читал; но это только казалось: зорко следил за кухаркой, не узнала ля она его тайны.
Вот он приехал. Здесь начнет он свое дело, уже он все разорвал со старым; отсюда в мир его начнется пришествие. Но пока — молчание! Вчера они пили, ели — и пили, пили. Поднимая стакан с водкой, он еще помнил, что нужно таиться, а опуская, не помнил: обнимался с отцом, оба, пьяные, шатались утром по саду на заре и что-то говорили.
Одевался. Стадо коров протащилось к обеду. Пастух орал песню рожком, и «пплах» щелкал бич. Склонил усталое, бледное, бледное, бледное свое лицо и ловко вскинул пенсне: знал, что делал: спасал человечество.
Знал, что его сон — не сон, а прообраз грядущего. Он превратил символы в воплощение: творил в мире бытия мир ценностей.
Дома, на отдыхе!
Адам Антонович вышел из флигелька, который в детстве он называл «миром». Сквозь стекло крикнул он в шутку прислуге: «Ты еще в „мире“, а я уже не в мире: я в России».
Горбатые равнины разбежались туда и сюда — равнины русские, изъеденные оврагами, старинные, родные, все те же. «Умом России не обнять: у ней особенная стать, в Россию можно только верить», подумал он: «Правы славянофилы: они верили в мое пришествие. Се, гряду жениху». И пошел к отцу пить чай. Пили чай, а из соседней комнаты раздавались женские голоса: «Индюшечки-то у вас падают?»
— «Падают».
— «А-а-а».
И наступало молчание.
Отец подозрительно посмотрел на сына: «Что-то спьяну. друг мой, несуразное ты говорил». И Адам Антонович ответил, готовя отпор, бледное, бледное, бледное вскинул лицо, прищурив голубые подслеповатые глаза и гладя седеющую бороду: «А я видел во сне, что катался на псе». Оби тяжело вздохнули. Отец спросил: «Что ты намерен делать?» «Когда-то я пописывал и почитывал: теперь уже ничего не пишу, ничего не читаю». Отец хлопнул его по плечу: «Тихо поживай себе на родине, в старине». И, показывая в окно, присовокупил: «Это — наша родина — пространства. Здесь искони тихо поживают. Будем же и мы неизменные, родные». А из соседней комнаты раздавалось нежное лопотанье: «Вы бы индюшечкам головку-то водочкой смочили».