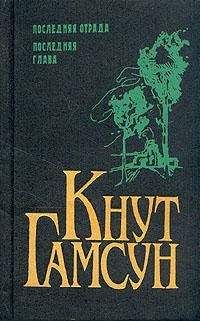Алла Демидова - Бегущая строка памяти
Мы так этот проход и не сняли, пройти перед идущими машинами оказалось невозможно. Сейчас, кстати, в Женеве мало кто бы пропустил, а тогда останавливались все.
Во время международного хоккейного матча нужно было снимать и меня, и хоккей. И меня — с разрешения нашей сборной — посадили за лавкой, где сидят запасные игроки. Я первый раз была на хоккейном матче и не очень понимала, что происходит. Обратила внимание на какую-то дебильность игроков, которых все время теребил тренер: «Поддерживайте! Поддерживайте!» А они только друг другу говорили: «Ну, давай, давай!» Что «давай»? Куда «давай»?! Правда, я заметила одного игрока, он был немножко горбатый, как Квазимодо, который вроде бы не очень и двигался, замирал, как паук, потом что-то быстро делал и шайба была в воротах. Когда он приходил на скамью запасных, тренер к нему не приставал, и он — единственный — не говорил это слово «давай!». Молча садился, молча отдыхал, а потом опять мчался и забивал шайбу. И он мне так понравился! Я спросила: «Кто это?» — «Фетисов». Кто такой Фетисов? Потом мне объяснили, что это первый игрок. А тогда я думала: вот в этой несуетности — смысл своего дела. И Лариса — абсолютно такая же, вся зашоренная, под колпаком своего дела. Для нее не существует мир, другие люди — у нее все идет в одно.
Кстати, этот международный матч передавали в Москве по телевизору. И мои домашние видели, как я там сижу и смотрю хоккей.
Наши выиграли, и в их честь устроили прием. Лариса пошла, ей нужно было договориться с Фетисовым, чтобы доснять его крупный план в Москве. А я, как ни была влюблена в Фетисова, не пошла, потому что заразилась от Ларисы гриппом — мы ведь спали в одной кровати.
И вот в Москве, летом, — досъемка. Снимали закрытый каток на «Динамо». Я говорю: «Лариса, я приеду, мне интересно, кто такой Фетисов». Жду, группа уже собралась, а он, естественно, опаздывает — «звезда» должна опаздывать. И вдруг я слышу открытые гласные и противный тембр. Я думаю: «Что за гадость там идет?!» — и входит какой-то коротышка с золотой фиксой, в шелковой футболке, натянутой на бицепсы — Фетисов. Я ушла. А по дороге вспоминала историю Павла Григорьевича Антокольского, с которым была в свое время хорошо знакома. Он рассказывал, как, будучи молодым поэтом, в 20-е годы зашел в ресторан и увидел в углу за столиком своего кумира Игоря Северянина. Подумал: «ананасы в шампанском», «мороженое в сирени»… Северянин пил водку и закусывал селедкой. «И я, — говорил Антокольский, — впервые понял разрыв между автором и его произведением».
В это же время Лариса переезжала вместе с Элемом Климовым на новую квартиру. На набережной, недалеко от гостиницы «Украина», 1-й этаж. Я туда заходила, кое-что мне нравилось, но что-то в этой перестройке стен было от кино — какая-то режиссерская мысль, желание расширить пространство, как в павильоне. Кухню соединили с большой гостиной, гостиную— с кабинетом, где на кресла были накинуты редкие в то время меховые шкуры. Лариса очень любила и гордилась своим домом. Она была из Киева, и думаю, что, как все талантливые провинциалы, она хотела утереть нос столичным.
Или, например, она мне рассказывала. Вдруг ей звонит Фурцева и спрашивает: «Лариса, я вас видела на каком-то приеме, у кого вы одеваетесь?» — «У Зайцева». — «Ах, как интересно, дайте мне телефон…» Ларисе это льстило.
Учились во ВГИКе на одном курсе: Отар Иоселиани, Ира Поволоцкая, Лариса Шепитько (это последний курс, набранный Александром Довженко, после его смерти его вел Михаил Ромм). Лариса, судя по рассказам, не была яркой студенткой. Яркой была Ира. Она — москвичка, с идеальным вкусом, талантливая. И ей дали дипломную работу: снимать на «Туркменфильме» «Зной» по повести Айтматова «Верблюжий глаз». Снимать надо было в песках, в пустыне, собирать группу железной рукой, ведь кинопроизводство — все-таки завод. У нее сил не хватило, и она позвонила своей приятельнице с курса Ларисе Шепитько, которая осталась без диплома. Лариса приехала, они стали работать вместе. Потом Ира попала в больницу (кажется, с гепатитом), Лариса работала одна. Ира после больницы побоялась возвращаться в эту пустыню, и всю работу доделывала Лариса — и монтировала, и озвучивала. Вышел фильм «Зной», очень хороший. В титрах стояло: режиссер — Лариса Шепитько. В титрах не было Иры Поволоцкой. Это — шаг, поступок. Я не осуждаю, но я так бы не сделала и так бы не сделала Ира Поволоцкая — столичные. Но так поступила Лариса — «я хочу», и если бы не «Зной» — неизвестно, как бы повернулась ее судьба. Но «Зной» замечен был всеми, ездил на фестивали — и Лариса стала работать дальше…
А что касается «столичных» и «из провинции» — мысль, конечно, спорная, но замечено, что свежие силы в искусстве — почти всегда из провинции. Их жизненной энергии тесно в небольшом городе — они стремятся в столицу. Приехав, мыкаются, но быстро все схватывают (у нас в училище, я помню, самые модные девочки были из провинции). Стремление «переплюнуть» столичных толкает их на новаторство. И потом — лететь как с трамплина и диктовать столичным свои правила и законы.
Как-то один наш общий знакомый, прекрасный оператор, сказал, что Лариса Шепитько ему напоминает тип «железных леди».
У Нины Берберовой есть роман «Железная женщина» — о баронессе Будберг. Но и Лариса, и Будберг не были железными женщинами, они были разными.
Была я как-то в Ленинграде. Семен Аранович снимал фильм про Горького, я его потом озвучивала. Приехала баронесса Будберг, которая, как известно, была одной из жен Горького. Семен пестовал ее, возил по разным ею забытым местам. Вместе мы поехали в Пушкино. Она сказала, что хочет есть. Семен вышел из машины и купил кулек жаренных в масле пирожков с повидлом. Ими можно было забивать гвозди. Я надкусила один. Весь пакет съела баронесса, запивая коньячком, который она доставала, как это бывает только в старых американских фильмах, из-под подвязок. Она была грузная, говорливая, в норковой огромной шубе. И запомнилась мне на всю жизнь. Она не была железной, обладала огромным чувством юмора — мы тогда весь день благодаря ей хохотали.
Вот так и с Ларисой: «железный характер», «волевая женщина» — это клише. На самом деле бывало разное.
Она поздно забеременела и очень хотела оставить ребенка, но у нее была травма позвоночника. Тем не менее она все это выдержала и родила. И теперь ее нет, но остался сын.
Ее гибель тоже закручена в ее судьбу и силу ее воли. Она начала снимать новый фильм — «Матера». Выезжать на выбор натуры надо было очень рано. А до этого у кого-то из группы был день рождения, и они просили Ларису выехать позже. «Нет. Раз назначено — надо». И они выехали. Шофер заснул. Милиционер видел, как мчалась по параболе «Волга», в которой все спали, он хотел ее остановить, но не успел. «И, — рассказывал шофер грузовика, — я увидел, как на меня мчится „Волга“. Я свернул к обочине, потом я практически встал. Больше мне некуда было…» Грузовик был с прицепом, груженным кирпичами, «Волга» со всего размаха врезалась в прицеп, и эти кирпичи накрыли общую могилу. Характер Шепитько — и в ее фильмах, и в ее гибели.
«Прощание с Матерой», которое доделывал Элем Климов, интересно по материалу, и там интересен Петренко, но по мироощущению фильм получился мягче, чем у Ларисы, потому что Лариса сделала бы абсолютную трагедию. С таким трагическим мироощущением я женщин не встречала.
…В своих актеров она влюблялась, причем одинаково — и в мужчин, и в женщин. Во время «Ты и я» для нее никого не существовало, кроме меня, Дьячкова и Визбора. Никого. Она гримировала Визбора, совершенно влюбленно на него глядя. Я снималась в ее пальто, она ходила в моем — мы жили коммуной.
Когда кончились съемки, мы иногда где-то встречались, но она не общалась больше ни с Визбором, ни с Дьячковым — они перестали для нее существовать.
Человеку с трагическим мироощущением жить трудно. Я не знаю, когда это появилось у Ларисы. Может быть, она с этим родилась, а талант ее вел все глубже и глубже.
Недаром Муза трагедии — женщина. Голос трагедии — женский. «Голос колоссального неблагополучия» — как писал Бродский о Цветаевой.
Может быть, потому, что женщины более чутки к этическим нарушениям. Не знаю… Их этические оценки более целомудренны и прямолинейны.
Принимать трагедию как жизненный урок, учиться на нем не делать впредь ошибок. Или: принимать катастрофы как неизбежный ход исторического развития, принимать жизнь во всех проявлениях. Но — становиться после катастрофы другим человеком. Чище. В этом, по-моему, смысл трагедии.
Работать с такими людьми, как Лариса Шепитько — талантливыми, целеустремленными, — одно наслаждение. Но общаться в быту…
Как прекрасно кто-то из современников сказал о Мандельштаме: Мандельштам считал себя трагическим поэтом (что не подлежит сомнению), но если приходили друзья и приносили вино и закуску, он моментально об этом забывал…