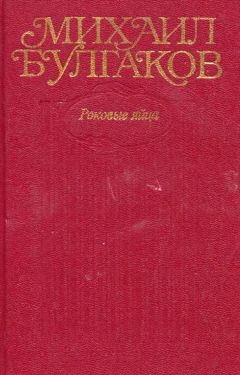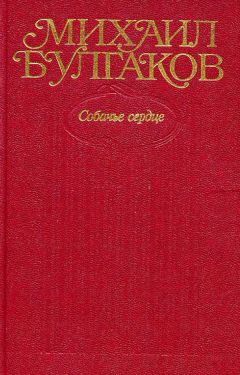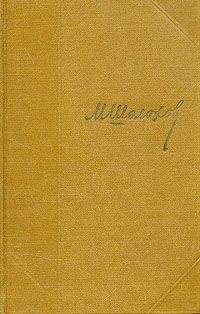Михаил Булгаков - Рассказы и фельетоны
В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но… Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.
И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет… Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:
— А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.
И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:
— Мань! А Ма-ань! Где ты?
Опять к монтеру ходили:
— Сво-о-лочь ты! Пяндрыга. Христи пожалуемся.
И от одного имени Христи свет волшебно загорался.
Да-с, Христи был человек.
Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:
— Которые тут гадют, всех в 24 часа!
И с уличенных брал дань.
__________И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:
— Дадим через неделю.
Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:
— Ой… Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?
И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замученные глаза. У стального Христи.
Эльпит страстно ответил:
— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом, к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция… Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю! Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Иванычу.
В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:
— Ну, что ж… Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек…
И правление соглашалось.
— Конешно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.
И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржуек, не вывели бы труб в отверстия, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.
И Нилушкин Егор ходил:
— Ежели мне которые… Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.
__________На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка {16}, простоволосая кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:
— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают — самогон лакают. А как обзаботиться топить — их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету, не дозволять! Косой черт! (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоптить… Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни…
И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:
— Ах, зануда баба… Ну и зануда ж!
Ко все же оборачивался и гулко отстреливался:
— Я те затоплю! В двадцать четыре…
Сверху:
— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!
Не осуждайте. Пытка — мороз. Озвереет всякий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5, стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.
— Ах, тяга хороша! — восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие,— замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.
И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть… А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком… Да на чердак.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской… Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску…
— Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!! — Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели — змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, вперебой… Барышня! Ох, барышня!! Один — ох — двадцать два… восемнадцать. 18… Краснопресненскую даешь!..
…Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.
— По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!.
Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-кровавых шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская, с искрами, с огнями, с касками…
Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!
…Еще много, много раз…
А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не cappriccio, а страшно — brioso. Сретенская с переулка-да-е-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.
Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49-м номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники божий! Ванюшка сгорел. Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!
Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило и третьему перебило позвоночный столб.
С самоваром в одной руке, в другой — тихий белый старичок, Серафим Саровский {17}, в серебряной ризе. В одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!!. Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.
И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные,— бенц! Бенц!
Трубники в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что — резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.
Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:
— Ну, что уж больше… Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.
Но Христи еще раз качнул головой.
— Поезжайте… Я сейчас.
Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь…
…На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.
То шептала чепуху какую-то:
— Засудят… Засудят, головушка горькая…
То всхлипывала.
Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу… так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.