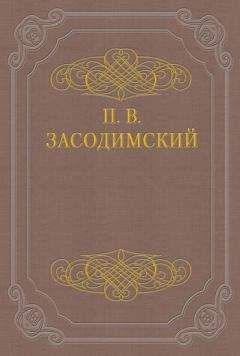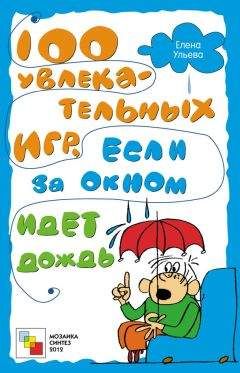Елена Ткач - Царевна Волхова
И теперь, когда Тася с Элей остались вдвоем и Эле доверено было право решать, она вдруг поняла, что не может отговаривать маму. Что какая бы жизнь не ожидала их в Загорянке, какой бы протест не вызывала эта работа, она должна помочь маме на неё согласиться. Сделать шаг. Пускай даже против этого все в душе восстает! Но этот шаг должен заставить маму подняться, распрямить спину. Накраситься, наконец! В парикмахерскую сходить…
Начать действовать.
Действие — это главное! — поняла вдруг Эля. И эта её догадка сделала бы честь любому взрослому.
Ночью, лежа без сна и вспоминая об их разговоре, Эля сама удивлялась как легко и просто пришло к ней это решение. С какой радостью приняла она мысль: маму нужно просто заставить действовать! Как будто прожектор вспыхнул в темноте и указал выход из лабиринта.
А как она в начале-то всполошилась, как всполошилась! Эля улыбалась в темноте, вспоминая излюбленное Тонечкино выражение: «Что всполошилась-то? Взбрыкнуть захотелось? Нечего, нечего!» Как же они с мамой похожи… Обе вспыльчивые, брыкливые, своенравные. Раньше Эля была уверена, что это свойства чуткой одаренной души, — так говорила ей мама. Но теперь, слушая как посапывает во сне Сенечка и думая о том как приятно осознавать себя взрослой, человеком, которому доверено принимать решения, вдруг поняла, что вспыльчивость, похоже, не самое лучшее женское качество.
И с чего она об этом подумала? Что послужило толчком? Может быть, все началось на кухне. Сначала они сидели вдвоем — мама с дочкой — и хохотали, приняв решение согласиться на эту работу. И у обеих словно гора с плеч! А хохотали из-за того как обе, едва услышав о наемной работе, начали злиться, ершиться! Не вникнув толком, не разобравшись…
— Знаешь, не так страшен черт как его малютки! — веселилась мама.
— Малюют, мам! — заходилась от смеха Элька. — Не так страшен… ха-ха-ха… как его малюют!
— У меня другая информация! — Тася ухватилась за плечики дочери, чтоб удержать равновесие, её качало от хохота. — Нам ведь черт подсовывает малюток… А… ой, не могу! — размалюют они нас или мы их — это уж мы с тобой разберемся на месте.
— Мам… почему черт? — враз посерьезнев, как-то побледнев даже, спросила Эля. — Почему нам что-то… именно черт подсовывает? Ведь эту работу для тебя разыскала тетя Ксана. А она уж… совсем не…
Эля не договорила, оборвала на полуслове. Она глядела на маму. Глаза у той превратились в два огромных темных провала, зрачки расширились и радужное сияние их пропало. Точно кто-то чужой глянул на Элю из маминых глаз. Это было так страшно… Эля вцепилась в мамину руку.
— Мам, ты что?
— Я сон видела.
— Опять бабушка?
— Да. Но в моем сегодняшнем сне она была совсем другая. Чужая какая-то… Гневная. Стояла и смотрела на меня так… точно я её чем-то смертельно обидела. Точно отняла у неё что-то самое дорогое. Или собираюсь отнять.
— Ох, мамочка! А она что-нибудь говорила? Что-то сказала тебе или просто стояла так, молча?
— Сказала, Эльчик. Но вот, что сказала, я не пойму никак. Ничего не понимаю. Совсем!
— Мам, пожалуйста, скажи мне. Скажи мне, слышишь?
Эля трясла мамину руку в своих, точно таким способом могла отогнать чужого, который глядел на неё из маминых глаз. Может, это был страх? И дочь пыталась вырвать страх из маминых глаз как занозу из пальца.
Видела — мама боялась.
— Она сказала… — Тася помедлила, как будто перед прыжком в воду. Спросила меня: «Который из двух? Которого ты выбираешь? В одном — жизнь, а в другом — смерть. Только смотри, не ошибись, внучка!»
— И все?
— Все.
— Ох, мамочка! Про кого же она говорила? И как не ошибиться-то? А может… может бабушка Тоня ещё подскажет? Придет к тебе во сне и подскажет. А?
— Может быть, дорогая…
Вдруг Тася схватила со стола первое попавшееся — пепельницу и со всей силой швырнула на пол. Та разбилась. Окурки вперемешку с осколками разлетелись по всей кухне. Тася сидела как каменная, только в глазах её бился ужас. А Эля… она испугалась не меньше, кинулась подбирать осколки. Потом опомнилась, схватила веник, совок… Смела все в мусорное ведро. И заплакала. И слезы её растопили недвижную статую — Тася ожила, застонала как от жестокой боли, кинулась к дочери. Они сидели, обнявшись, и ждали жизнь, которая будет. Которая может стать избавлением, а может сразить наповал. Они обе это понимали. Но им оставалось только одно — ждать.
А Эля… может, тут-то она поняла как плохо и грустно быть вот такой дерганой, вспыльчивой. Нет, на маму она не обиделась. Просто сама быть такой не хотела.
И вовсе это не свойство одаренной души, — думала Эля, — а просто… нет, пожалуй, пока она не знала ответа. Что ж это такое — человек? Почему душу бьет и треплет как на ветру… треплет жизнь, словно неплотно прикрытый ставень. Нет, она не знала, почему такое бывает…
А потом, когда они обе выплакались, Эля сказала маме.
— Мам, мы с тобой как ежихи, честное слово! Те сначала тоже фыркают, дергаются и пыхтят, когда их в руки возьмешь, а потом… Как успокоятся немножко, потихонечку нос свой высовывают из иголок и пьют молоко. Слушай, а давай мы… давай пообещаем друг другу, что не будем больше дикими ежихами? А если кто-то из нас станет пыхтеть и подпрыгивать, то другая сразу подаст знак: приручайся!
— И какой же это будет знак, ручная ты моя? — улыбаясь и хлюпая носом, спросила Тася.
— Давай мы станем тереть кончик носа!
Глава 6
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Ксана, которая уже не надеялась на согласие подруги, узнав о нем, страшно обрадовалась и принялась улаживать все детали. Ермиловы предлагали переехать как можно скорей — дети нуждались в свежем воздухе. Старший их сын Миша в школе не учился — его готовили к поступлению в английский колледж частные преподаватели. Он должен был отбыть к берегам туманного Альбиона к осени и родители хотели, чтобы мальчик как следует отдохнул и набрался сил на природе.
Отъезд назначили на пятое марта. А накануне, четвертого, раздался неожиданный телефонный звонок. Звонила Евгения Игатьевна, сестра покойного Гавриила Игнатьевича, мужа бабушки Тони. Тася приходилась ей внучатой племянницей. Не родной. Ведь для Тасиной мамы он не был родным отцом… Евгения Игнатьевна, зная о настойчивых Тасиных поисках безвестного деда, долгое время пыталась кое-что вспомнить, маялась — был ведь какой-то след! Вспомнила, наконец, и сразу кинулась к телефону. И вовремя: ещё день — и Тасю с детьми поминай как звали! Связь с ними оборвалась бы на все лето…
И баба Женя, Евгения Игнатьевна, начала свой рассказ. Генечка Гавриил Игнатьевич — обычно на разговоры был скуп, все больше помалкивал. Но как-то в один из прекрасных летних дней, когда сестра пригласила брата к себе на дачу, разговорился о Тоне — жене. Она тогда как раз приболела и приехать с ним не смогла. Тоня тревожила его, он чувствовал, что тайна какая-то жжет ей сердце. И сердце болит. Не то что болит — из груди рвется!
— «Тяжек воздух нам земли!» — Геня все повторял в тот день слова Пушкинского Черномора, выводящего рать свою со дна моря, чтобы обойти дозором чудный остров царя Салтана. Он повторял это, — тонким старушечьим голоском выводила Баба Женя в телефонную трубку, — как бы сокрушаясь о Тонечке. Будто бы это ей тяжек воздух нашей земли. Груз на сердце был у неё — груз тяжелый. А в чем все дело-то было — нет, Геня не говорил… И знал ли сам это, не знал ли — я, видишь ли, Тасенька, тоже не понимаю. Но он вдруг, а сели мы тогда в нашей тенистой беседке чай пить, а к чайку я наливочку свою фирменную припасла, так вот… — тараторила бабушка Женя, вдруг он мне и начал рассказывать про то как Тонечка его в Москве появилась. А ведь любил он её страшно, да! Страшно любил! Так вот, говорит он мне, братик милый, что устроилась она домработницей в один очень хороший дом к одной очень хорошей женщине. Как звали-то её — я уж сейчас не припомню. Знаешь, семья была из числа старых московских интеллигентов. Как в старые годы говаривали: «из бывших». А муж хозяйки-то Тонечкиной — очень высокий военный чин был. То есть, сама понимаешь, я о военных советского времени так не думаю, — не причисляю их к интеллигентам… да и вообще я военных не жалую — сама знаешь…
Тася с трудом подавляла в себе желание закричать в трубку, чтобы баба Женя перестала её мучить и не тянула резину. Ведь сейчас, вот сейчас она, Тася, ухватит желанную ниточку! Потянет за неё и поведет её та по лесам, по полям, да рекам, поведет к могиле родного деда. И исполнится воля Тонечкина! И узнает внучка её то, чего сама так истово, с такой страстью желала… За что заплатила счастьем своим! Тася сердцем чувствовала — этот нежданный звонок и путанный рассказ бабы Жени — и есть начало пути, который приведет её к цели.
— Ну и вот… — продолжала бабушка Женя, ещё минут пять порассуждав о военных, — а сама хозяйка квартиры, — Тонечкина, значит, хозяйка, — она-то «из бывших» и была. Даже, кажется, дворянского рода старинного! И только положение мужа спасало её от обычной в то время участи таких, как она. Ну, понятное дело — от лагерей! А то от чего и похуже… Ну вот. И говорил он Геня-то, что эта самая женщина Тоню пригрела и приняла в семью как свою. Как родную. Полюбила она её очень. И относилась не как к домработнице, а как… ну, к подруге, что ли… А приехала Тоня в Москву с узелком, в котором была смена белья и буханка хлеба. Уж наполовину сгрызенная… И не было у неё в Москве ни родных, ни друзей. Геня в тот день на даче сокрушался уж очень, как могла она одна-одинешенька, да ещё в восемнадцать-то лет в такой путь пуститься. Это с Волги-то матушки!