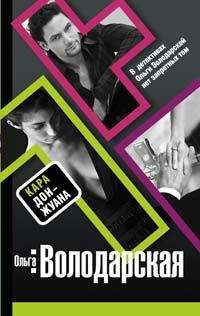Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана
Не надо, однако, думать, что все это время Гроссман находился в непрестанном унынии. Были друзья, которые оставались друзьями. Гроссман выделял и любил Бориса Ямпольского, Виктора Некрасова, литературоведа Николая Богословского, человека чистого, по-детски верующего. У нас на Беговой образовался тесный кружок соседей: Гроссман, Заболоцкий, Степанов (профессор-филолог), к нам приходил Николай Чуковский (потом Гроссман и я с ним разошлись). Гроссман, чтобы на миг забыть о надвигающейся тьме, решил устроить, как он выразился, "маленький пи-рок во время чумы". Он предложил, чтобы каждый из нас написал биографию друг друга, воспоминания - шуточные, конечно, "материалы для будущих энциклопедических трудов". Остроумнее всех написал Заболоцкий - как раз о Гроссмане. Заболоцкий рассказывает о том, как они вдвоем с Гроссманом долго гуляют по городу. Спутник поражает его своей наблюдательностью, все-то он видит, все замечает, каждый пустячок, каждый камешек, кто как одет и прочее. Когда они подходят к дому, Заболоцкий говорит: "Вот и кончилось солнечное затмение". - "Как, удивляется Гроссман, - разве было солнечное затмение?" Развертывалось все это смешнее и ярче, чем в моем пересказе по памяти, и Гроссман от души смеялся. Не знаю, куда делись эти странички.
Почти каждое воскресенье мы проводили в гостях у моей мамы, которая с удовольствием готовила нам традиционный набор еврейских кушаний, до которых Гроссман был большой охотник. С. М. Михоэлс определял это как "гастрономический патриотизм". Гроссман любил мою маму, умел с ней говорить, он вообще умел говорить с каждым человеком, и с крестьянином, и с уборщицей, и со знаменитым физиком, и все, насколько я мог заметить, даже не зная, кто их собеседник, чувствовали в нем человека необыкновенного. Чувствовала это и моя мама, и не только потому, что он известный писатель. Он умел понять ее повседневные заботы, ее горе о дочери, умершей молодой, рассуждал с ней с завидным знанием дела о способах приготовления того или иного блюда, о соседях по коммунальной квартире, запоминая некоторые сообщенные мамой подробности для своей работы.
Посещали мы с ним кафе, рестораны. Запомнился один забавный случай. Впрочем, не такой уж забавный. Мы не могли попасть в знакомые нам "Арагви", "Националы", "Асторию", - происходила какая-то конференция, эти рестораны были закрыты для простых граждан. Решили попытать счастья в "Метрополе", в котором никогда не были. Нас впустили. Все столики были заняты, но за последним, то есть первым от входа, сидел всего лишь один посетитель.. Мы попросили разрешения, подсели. Официант довольно быстро принес заказ. Наш сотрапезник был широкоплеч, коренаст, невысокого, видимо, роста, смуглый. Приступили к делу, чокнулись с соседом. Вдруг из глубины зала к нам подошел едок - большой, толстый и не очень пьяный. Он, вертя одним указательным пальцем вокруг другого на уровне своего живота, проговорил: "Пузики-животики-жидочки, пузики-животики-жидочки". Наш сосед поднялся, сделал едва заметное движение рукой, и большой толстяк упал, не только упал, но и немного покатился по ковровой дорожке. Зал настороженно молчал. Упавшему помогли встать. Он удалился, чуть пошатываясь. Мы познакомились с нашим соседом. Оказалось, то был знаменитый в свое время атлет Григорий Новак. Мы ждали вмешательства администрации, но нас никто не потревожил. "Вы нашли единственный правильный аргумент", - сказал Новаку Гроссман.
Между тем опара всходила, снизу в обществе поднималось все дурное. После статьи Бубеннова, чьи положения были автору явно продиктованы, появились другие, еще более сердитые - и страшные. Распространялся достаточно точный слух, что роман вызвал гнев Маленкова, самого приближенного из слуг Сталина. Сумасшедшая в свою пользу Мариэтта Шагинян выступила со статьей против романа в "Известиях". Наконец, по роману ударил Фадеев - коротким, но сильным ударом. Твардовский на секретариате Союза писателей каялся в том, что опубликовал роман в своем журнале. Печатно отреклась от романа и редколлегия журнала.
Заставляли каяться и Гроссмана. Круг друзей и знакомых все больше редел. Случилось так, что и у меня в это время положение стало неважным, хотя, конечно, не шло ни в какое сравнение с положением Гроссмана. Еще осенью 1949 года на меня завели грязное дело. Вопрос обо мне стоял на секретариате Союза писателей: я, мол, пропагандирую как переводчик и пересказчик байско-феодальные эпосы тюркоязычных народов "Манас" и "Идегей", эпос высланных калмыков "Джангар". За меня заступились Фадеев и Симонов (последний - по ходатайству Гроссмана), дело кончилось выговором, но кончилось ли? Были арестованы мои добрые друзья, еврейские поэты, которых я переводил,- Самуил Галкин и Перец Маркиш. Пассажиры в трамваях, автобусах, электричках, прочитав о врачах-убийцах, говорили о том, что евреи-провизоры отпускают такие лекарства, которые заражают людей сифилисом.
Мы с Гроссманом решили это смутное время пережить, вернее, укрыться на моей даче в Ильинском по Казанской железной дороге. Жили мы так. Я закупал в закрытом городке Жуковском провизию (тогда это было просто), мыл посуду, а Гроссман готовил обед, каждый день один и тот же наваристый суп.
Однажды к нам приехала Ольга Михайловна, очень взволнованная: звонил Фадеев, зовет Гроссмана к себе домой, срочно. Гроссман выехал ранним утренним поездом. К сожалению, я не помню всего разговора между ними Гроссман мне его пересказал, - я помню только суть: Фадеев настойчиво советовал Гроссману покаяться, публично отречься от романа, "ради жизни на земле" - процитировал он Твардовского. Гроссман отказался. Помню еще мелочь: увидев Гроссмана, Фадеев надул щеки, удивленно показывая, как Гроссман поправился. А все наш наваристый суп.
Перед нашим отъездом на дачу у Гроссмана произошло событие, о котором он часто и мучительно вспоминал. Гроссмана пригласили в "Правду": позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в "Правду" Гроссман зашел в "Новый мир". Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа "За правое дело". Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: "Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?" - "Хочу", - сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: "Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят".
В "Правде" собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагалось подписать. Смысл письма: врачи - подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т.д. По словам Гроссмана, особенно противно выступил карикатурист Ефимов, родной брат репрессированного и погибшего журналиста Михаила Кольцова. Письмо так и не было послано Сталину, вообще оно было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей высокопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою судьбу со всеми ее привилегиями. Но Гроссман, в каком-то затмении решив, что ценою смерти немногих можно спасти несчастный народ, вместе с большинством собравшихся поставил под письмом свою подпись. А может быть, на его состояние повлиял разговор в "Новом мире"? Гроссман возвращался из "Правды" к себе на Беговую пешком - это сравнительно близко, - выпил по дороге полтораста граммов водку при Сталине женщины в грязных халатах поверх тулупов продавали прямо на улице - и чувствовал себя противно. До конца жизни он казнил себя за этот поступок. Читатель "Жизни и судьбы" вспомнит, что и физик Штрум совершает нечто подобное - и горько раскаивается.
Ссора Гроссмана с Твардовским впоследствии сказалась на тяжкой участи "Жизни и судьбы". О, не надо было им ссориться, не надо было! Гроссман любил Твардовского, и его самого, и его стихи, тем более его раздражали некоторые поступки и высказывания Твардовского. Одно время они крепко дружили, в 1948 году их дружба прервалась, потом помирились, и хотя прежних отношений уже не было - было взаимное уважение и стремление друг к другу. Тем большей была обида Гроссмана на Твардовского, не того Гроссман от него ждал. Обида эта не угасала, а усиливалась. Вот что Гроссман мне написал в Душанбе в сентябре 1956 года - через три года после ссоры с Твардовским:
"Расскажу тебе о событиях за время твоего отсутствия. Ходил в Союз. Подал Ажаеву * петицию о том, что нужно создать комиссию, которая от имени Союза возбуждала бы ходатайства о реабилитации погибших писателей, не имеющих родных. Назвал А. Лежнева, Пильняка, Анд. Новикова, Святополка-Мирского. Предложение встретило сочувствие, Ажаев обещал рассмотреть его на секретариате.