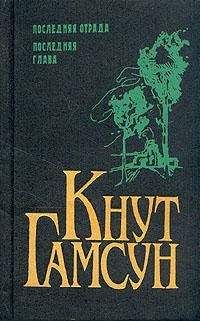Алла Демидова - Бегущая строка памяти
Читателю я даю возможность угадать, кто из нас какие строчки писал. Я помню, там же, в купе, мы ели купленный в дороге большой арбуз. Это было очень неаппетитно и грязно (не было посуды, ножей, вилок, салфеток) — и я от отчаяния и усталости заплакала…
«Буриме» было нашей любимой игрой в гастрольных поездках. По правилам в «буриме» каждый пишет две строчки, но при этом видит он только последнюю строчку предыдущего. Своей первой строчкой он ему отвечает, но ответ этот загибает и дает еще одну строчку — следующему. Листочек превращается в гармошку, и, как правило, эта гармошка имеет смысл. Вот «буриме», в которое мы играли во время гастролей в Югославии.
Высоцкий:
Как ныне собрал свои вещи театр,
Таганских глумцов[2] боевой агитатор.
Сентябрь на дворе — здравствуй город Белград!
Дыховичный:
Нет суточных давно, и я тебе не рад.
И «Коля» за окном все ходит затрапезно.
Демидова:
А мы летим вдвоем так сладостно, но в бездну.
Но все нам трын-трава, пока мы на гастролях.
Хмельницкий:
Подходит «Николя»[3] и мы по-сербски: «Моля!»
Вернемся по домам и вдруг исчезнет воля.
Филатов:
На каждого из нас досье напишет Коля.
Унылая пора! Очей очарованье!
Дыховичный:
Убожество пера! Анчар и Ваня!
Да, голова пуста, когда живот не сыт.
Демидова:
Вот почему всегда испытываем стыд.
Но солнце за окном, а в сердце лабуда.
Хмельницкий:
И все бы ничего, да вот одна беда:
«Я правильно купил?..» А впрочем, ерунда.
Филатов:
Сегодня — Будапешт, а завтра — Кулунда!
Поэтому живи! Живи, пока живется!..
Высоцкий:
Хотя я не тот, кто последним смеется
(Товаров я в Загребе мало загреб)
Дыховичный:
И этого даже мне хватит по гроб.
Я алчность в себе ненавижу
Демидова:
Мне родина нищая ближе
Хмельницкий:
Эпитет рискованный. Посмотрим,
Что Леня напишет пониже.
Филатов:
Пора нам из Сербии смазывать лыжи! —
тут кончилась бумажка, а на обратной стороне был текст чьей-то роли.
После спектакля мы обычно собирались у Хмельницкого в номере, он ставил какую-нибудь бутылку, привезенную из Москвы. Леня Филатов выпивал маленькую рюмку, много курил, ходил по номеру, что-то быстро говорил, нервничал. Я водку не люблю, тоже выпивала немножко. Иногда говорила, но в основном молчала. Ваня Дыховичный незаметно исчезал, когда, куда — никто не замечал. Хмель выпивал всю бутылку, пьянел совершенно, говорил заплетающимся языком «Пошли к девочкам!», падал на свою кровать и засыпал. Наутро на репетицию приходил Леня — весь зеленый, больной, я — с опухшими глазами, Ваня — такой же, как всегда, и Хмельницкий — только что рожденный человек, с ясными глазами, в чистой рубашке и с первозданной энергией.
И вот в Париже пошли мы — Ваня, Хмельницкий и я — в пиццерию, в ресторан! У нас было очень немного денег — так называемые «суточные», но мы хотели попробовать французскую пиццу с красным вином. Я сказала, что не буду красное вино и пиццу не очень люблю, а они сказали, что я — просто жадная и мне жалко тратить деньги.
Вообще отношение ко мне — странное было в театре. Сейчас в дневниках Золотухина я прочитала:
«Я только теперь понимаю, насколько скучно было Демидовой с нами». Не скучно. Просто я не открывалась перед ними. Они не знали меня, и мое, кстати, равнодушное отношение к деньгам воспринимали как жадность. Я презираю «купечество», ненавижу актерский ресторанный разгул. Так и в тот раз, подозревая, что эта пицца — чревата, ибо пришли мы в пиццерию в поздний ночной час в сомнительном районе, я попробовала отказаться. Заграничную жизнь я знала лучше, чем они, ибо с конца 60-х годов ездила в разные страны на так называемые «Недели советских фильмов». И уже разбиралась, в каком районе что можно есть и в какое время. Здесь было очевидное «не то», но эту сомнительную ночную пиццу я съела, чтобы меня не считали жадной — ведь каждый платил сам за себя. И, конечно, все мы отравились. Это было понятно с самого начала, но мы — гуляли!
Первая репетиция «10 дней, которые потрясли мир» в «Шайо». Театр «Шайо» на Трокадеро — одноэтажное здание, но под землей, в глубине, — там еще много этажей. Чтобы войти, например, в зрительный зал, нужно долго-долго спускаться по лестнице вниз.
Все гримерные были в подвале, а еще ниже — какие-то коридоры, пустые залы и проходы. Я пошла по ним (вечное мое любопытство!) и поняла, что заблудилась, что это — катакомбы, что выйти я никак не смогу и найдут мой скелетик через несколько веков. И все-таки — иду…
Услышала какой-то звук сцены, обрадовалась. Вышла за кулисы. Но вижу, что это не наши кулисы. Играют американцы, на малой сцене. Я стою за кулисами, они на меня иногда посматривают с подозрением: «Кто это? Откуда возник этот призрак Отца Гамлета?»
Когда я украдкой глянула в зал, там оказалось немного народу, но актеры играют, выкладываясь на 150 процентов. Кончился спектакль. Я попросила меня вывести обратно. Пришла к своим и говорю: «Американцы для двадцати человек играют на износ». Любимов конечно, стал всех накачивать, ругая нас за наше каботинство — любимое его слово в течение долгих лет. (Я, признаться, до сих пор не знаю, что это такое, но всегда предполагала что-то нехорошее.)
Постепенно выяснилось, что у нас тоже мало зрителей, хотя зал огромный, какие-то 200–300 зрителей выглядели случайно забредшими. Чтобы подстегнуть интерес публики, Любимов дал интервью для «Monde», где сказал, что будет судиться с одной советской газетой из-за письма Альгиса Жюрайтиса против его «Пиковой дамы». «Monde» читают все, зрители двинулись смотреть, что это за диковинные спектакли, режиссер которых хочет судиться с Советской властью.
Я стала приглашать своих знакомых французов, они приходят — билетов в кассе нет, хотя зал полупустой, и я их проводила своими «черными» путями.
К середине гастролей наконец выяснилось: продюсер организовывал эти гастроли в то время, когда во Франции были модны левые движения. На «Таганке» он выбрал «10 дней», «Мать» и «Гамлета» (а в Лионе и Марселе мы играли еще и «Тартюфа»). Пока велись долгие переговоры с нашим министерством культуры, во Франции левое движение сменилось на правое, и продюсер начал понимать, что может прогореть с этой «Матерью» и «10-ю днями». Но он застраховал гастроли и, чтобы получить страховку, сделал так, что билетов в кассе не было, — мол, зрители покупают билеты и не приходят…
Играть при неполном зале — очень сложно, тем более в старом, тогда еще не перестроенном, «Шайо». Там в кулисах были бесконечные пространства, голос уносился вбок, в никуда. Надо было говорить только в зал и то — кричать.
И вот играем мы «Гамлета», и в конце 1-го отделения — вдруг какие-то жидкие аплодисменты и голос: «Алла! Б'гаво! Б'гаво, Алла! П'гек'гасно!» Мне Высоцкий шепчет: «Ну, Алла, слава наконец пришла. В Париже…» (А после первого отделения никогда не бывало аплодисментов, потому что Любимов нашу ночную сцену Гертруды и Гамлета на самой верхней трагической точке перерезал антрактом.)
В общем, выяснилось, что это мой старый московский учитель по вождению. Он был уникальным человеком и стоит отдельного рассказа.
Я не хотела, да и не могла из-за репетиций ходить в школу вождения, поэтому мне кто-то из знакомых посоветовал человека, который сможет научить меня водить. Появился старый еврей с черной «Волгой». Теперь я подозреваю, что он вообще не умел водить. Он меня сразу посадил за руль и сказал: «Алла, к'гути!» — и мы выехали на Садовое кольцо. В это время он грыз грецкие орехи, разбивал их дверцей «Волги» (я поняла, что машина не его). Он совал мне в рот грецкие орехи, а я, мокрая как мышь, смотрела только вперед. Я жевала, а он повторял: «Алла, к'гути!» И так мы «к'гутили» несколько дней, причем по всей Москве, потому что возили суп из одного конца Москвы в другой — его тете, а оттуда пирожки — племяннице. В общем, я научилась хорошо «к'гутить» и уже без его помощи сдала экзамен, потому что экзамен надо было сдавать по-настоящему.
У меня в записной книжке никто никогда не записан на ту букву, на которую нужно — я записываю имена или фамилии чисто ассоциативно, а потом долго не могу найти нужный мне телефон. Учитель по вождению у меня значился на «П» — я его записала как «Прохиндея». Время от времени я давала его телефон каким-то своим знакомым, они также «к'гутили», но тем не менее все благополучно сдавали экзамен. И вдруг он пропал. Сколько я ему ни звонила по разным надобностям — моего Прохиндея не было…