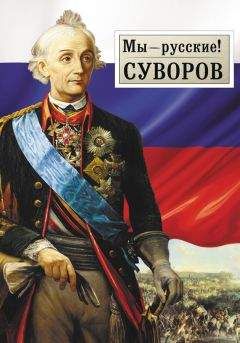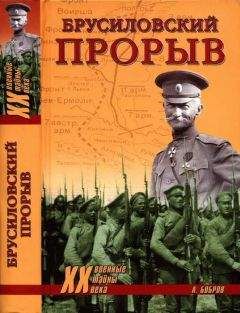Федор Крюков - Офицерша
Служивый, сидевший в переднем углу, был центром, к которому обращались все речи, тосты, взгляды, улыбки и слова нескрываемого восхищения, лукаво-льстивые и наивно-откровенные. Восторгались вслух офицерскими погонами, которые называли аполетами, количеством и великолепием костюмов, привезенных Гаврилом Юлюхиным со службы, — он уже два раза переоделся в первые же часы своего пребывания в родительском доме: сперва в синюю куртку, а затем в мундир с голубой подкладкой. С почтительным изумлением смотрели на большой, туго набитый кошелек, который служивый не раз вытаскивал из кармана, открывал и не спеша обстоятельно перебирал пальцами сперва бумажки, потом серебро, доставал в конце концов медную монету и дарил малым ребятам на гостинцы. Те, кто сидел поближе, даже заглядывали, вытягивая шеи, внутрь кошелька и подавленно крутили головами…
Это был настоящий триумф фамилии Юлюхиных, который с особенным упоением переживал старик Макар.
— Ребята!.. «Не ясмен сокол»!.. Зачните «Не ясмен сокол»! — весь сияющий и неугомонно-шумный от счастья, кричал он молодежи, стоявшей у стены и исполнявшей роль хора. — Сват Ларивон! У тебя голос дозволительный, — зачни им «Не ясмен сокол»…
И входили новые лица, — в обычное время чужие, равнодушные люди, а ныне, в день торжества и ликования, вспомнившие о каком-то родстве, свойстве, кумовстве… Проталкивались к столу, радостно приветствовали, поздравляли с родительскими домами, умиленно рассматривали служивого, изумлялись вслух, говорили грубую, но приятную лесть.
Пришел Карпо Тиун — с бутылкой водки, торчавшей из кармана шаровар. Он поставил бутылку и через стол троекратно облобызался с Гаврилом Юлюхиным. Потом осмотрел его с фронта, подался влево — посмотрел, затем вправо. Сделал все обстоятельно и толково, чем особое удовольствие доставил Макару.
— Вот, Карпо, бери придмер у Юлюхиных, как служить, — сказал старик наставительно. — Пойдешь на службу, служи, не ленись… строго наблюдай!..
— Это самая ваша форма, Гаврил Макарич? — склонив голову набок и рассматривая льстиво-изумленным взглядом погоны служивого, спросил Тиун.
— Вобче — присвоенная чину подхорунжего.
— Очень прекрасная форма!..
Варвара, раскрасневшаяся, нарядная, принесла на стол лапшу, потом подала курицу и баранину, порезанную на мелкие кусочки. Марья в новой полушальке и красных туфлях, подарке служивого, принесла блинцы, молоко и арбуз.
— Этой фрухты давно небось не ел, Гаврилушка? — спросил, нагибаясь через стол с ломтем арбуза, Данил Панфилыч, дед Варвары, бородатый старик с голым черепом и с «Георгием» на синем суконном халате.
Служивый, откинувшись слегка назад, подняв брови, глубокомысленно оглядел ломоть. Потом сказал — с тою изысканно-кудрявой манерой говорить, какая обыкновенно бывает у хорошо полированных людей:
— Действительно, что не приходилось. Хотя разные, можно сказать, кушанья едал в офицерском собрании… Иную и на конец языка не успеешь положить, — растаяла, как тоненькая лединка.
— Ну, тут уж таких кушаньев не придется, — с огорчением заметил тесть его, Ларион Афанасьевич, почитывавший иногда «ведомости» и страдавший в душе от окружающей необразованности.
— Тут кушанье простое, — виноватым голосом сказал пьяный Семен, зачерпнув деревянной ложкой лапши, — ушников наших… Офицерский леденец — что! Им сроду не наешься! А вот наших ушничков побольше — это так! Наелся, чтобы блоху на пузе раздавить можно было, — вот это по-нашему!..
— Варвара Ларионовна! — спохватился вдруг подхорунжий Юлюхин и упрекающим взглядом поглядел на жену. — Почему же нет, что называется, вилок?
— На что их! — пренебрежительно воскликнул Семен. — Мы и так обойдемся…
— Почему же так, когда они есть? У меня в сундуке дюжина ножей и дюжина вилок лежит… литой стали!..
— Еще растаскают тут у нас… Вилка дело нежное… Да у нас с вилки и не умеют… После, после, Варвара! Ты играй песни! Муж пришел, — должна плясать…
— Да, тебя с радостью, Варька! — сказал дед Данил. — Супруг пришел…
Варвара застыдилась, потупилась, закрылась концом платка, засмеялась. Раскрасневшаяся и взволнованная, она была очень красива, казалась радостно оживленной, счастливой. И когда глаза ее встречались иногда с веселым, смышленым взглядом подвыпившего Карпа Тиуна, она скользила по его лицу без смущения спокойным, равнодушным взглядом, как будто ничего не было в прошлом между ними, — умерло навсегда это мимолетное, короткое и милое, умерло и никогда больше не воскреснет.
— И горькая эта планида бабья! — пьяным голосом воскликнул Семен. — Муж уйдет на службу — первое время боится бабочка одна на баз выйтить… А потом, только понавыкнет, извольте радоваться: муж пришел…
— Ну, ты уж там не мели языком! — сердито отозвалась Филипповна, сидевшая на лавке, с новой шалью на плечах. — Бабы у нас жили правильно… завсегда заслуживают отдать благодарность…
— Мамушка! Я же политического ничего и не сказал…
— Ну и молчи!..
— А ежели я желаю поговорить? — расслабшим голосом закричал Семен. — Я вот как скажу, а ты, мамушка, не обижайся, а вы, господа председящие, слухайте, правильно, ан нет?..
Он опустил голову, покрутил ею и рассмеялся.
— Пришел я, стало быть, со службы… Ну, первым долгом: жена, отвечай! Какого рода поведения была? На точном ли основании сдержала себя?.. А она мне: «Сема! Да ты уж не спрашивай: в скотине и то кровь ходит, а я — чел<ове>к… И в Писании, говорит, сказано: «не присиливай себя»… В Писании… Она у меня письменная, — с грустью вставил он. — «Побей, — говорит, — сколько надо, взыщи, да давай мириться…»
Смех рассыпался и потерялся в дробном гомоне пестрых голосов. Старый Данил гулким голосом сказал:
— Службы нынче короткие стали… Вот мы, бывало, служили так служили…
— Было время бабам разгуляться? — шутливо спросил огненно-красный Савелий Терентьич, сосед Юлюхиных.
— И сколько душе угодно… У меня покойница моя была на вид вовсе лядащенькая, — я перед ней был молодец молодцом: вахмистр, из себя черноусый, тело белое, настроение развязное. А она — плюнуть не на что, вся с наперсток… А тоже… приобрела ведь мне одного… служивского…
— Играйте песни, ребята! Не молчите! — кричал Макар, разнося поднос с рюмками. — Бабы, а вы чего сидите? Плясать!.. Сват Ларивон! «Не ясмен сокол»…
Песня, не очень стройная, разноголосая, влилась в бурлящий гомон пьяных голосов, покрыла его, ударилась в стены, в потолок, через открытые окошки вылилась на улицу и на время одна царила в спертом воздухе, звеня, жужжа, крутясь и колыхаясь, в пахучей тесноте объединяя и сливая голоса молодые и старые, мужские и женские в одну симфонию, небогатую, однообразную, но будившую в сердце отзвуки смутных воспоминаний о неведомой старой были, славной, гордой, обвеянной грустью протяжного мотива.
Пел старый Данил Панфилыч стариковским сиплым басом, весь, всем существом своим пел, улыбаясь широчайшей улыбкой — так что и глаз не видно было в собравшихся морщинах, — крутил головой, вертел в воздухе растопыренными корявыми пальцами, наклонялся к соседям с таким выражением, словно рассказывал им нечто чрезвычайно важное, тайное, вложенное в звуки старой песни и в наивные ее слова…
Господа вы мои, офицерушки,
Мои думчатые сенаторушки!
Вы послушайте мово приказания…
— Нынче ведь все с гармоньями гульба-то… — кричал он в промежутках служивому, — и песни пошли, слухать не хочется! С прибавками, забыли старинку-то…
— Какой же на вас сейчас чин, Гаврила Макарич? — льстивым голосом спросил Тиун, придвигаясь ближе к служивому.
— Чин подхорунжего… за сверхсрочную… Прослужа пять лет… Тиун восхищенно щелкнул языком.
— По этому чину хлебопашество вам будет трудно, пожалуй. За время службы от нашей польской работы небось отстали? Теперь бы вам полегче надо устроить жизнь…
Служивый повел плечами, украшенными погонами.
— Желание было, конечно, послужить в полку, ну, родитель не благословил, как говорится. А служба мне была преотличная: тридцать пять рублей на всем готовом… Командир уважал. Можно бы служить… Ну, и на родину, конечно, пожелалось — посмотреть родимые местные предметы…
— Ну как, спокойно аи нет сейчас по России? — спросил бородатый умственный Ларион Афанасьевич, имевший слабость к политике.
— Пока ничего. Бунты усмирены.
— То-то по газетам не видать, чтобы…
— Сейчас затихли. Как раньше, например, были эти самые забастовки, сейчас этого ничего не слыхать…
— Гаврюша! — гулким голосом крикнул Данил Панфилыч. — Скажи ты мне на милость, через чего эти самые бунты бывают? По какой причине купоросятся те народы?
— Да конечно — от неудовольствия…