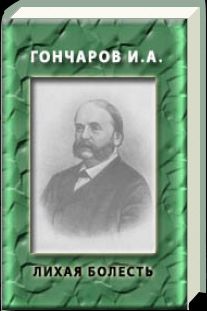Иван Гончаров - Лихая болесть
— В пять часов обедать! — воскликнул он, — слыханное ли дело!
— Как мы славно погуляли, monsieur Tiagelenko! — сказала Зинаида Михайловна, — как жаль, что вас не было!
— Вам, конечно, тошно видеть меня на свете, — отвечал он с горькою улыбкою, — вы хотели бы, чтобы я от ходьбы пал на месте бездыханен; мало того, что я не ел до сих пор!
— Прямой кубарь! — прошептала насмешница. Профессор торопил идти в село. Наконец, со всеми признаками страшной усталости, мы достигли привала.
— Кушать, кушать поскорее! — раздавалось со всех сторон. Все зараженные устремились было обедать на луг, но Тяжеленко загородил им дорогу.
— Вы пойдете на луг не иначе как по моему телу! — сказал он, что было физически трудно, а потому накрыли на стол в избе. Марья Александровна велела поставить горчицу, уксус и другие приправы.
— Кто, господа, запасся холодным? — спросила она, — велите подавать. Молчание. — Отчего же никто не говорит?
— Да, вероятно, оттого, что ни у кого нет, — сказал я.
— Ну так начнем пастетом. Андрей, подай!
— Да пастета нет, сударыня: дети дорогой весь изволили скушать.
Я не спускал глаз с Тяжеленки: лицо его покрылось гробовою бледностью; он бросил на меня яростный взор.
— У вас, Никон Устиныч, кажется, была ветчина? чего же лучше? — сказал Вереницын. — Велите подать.
— Ее собаки съели, которых вы отогнали от нас, — проговорил с замешательством Тяжеленко.
— Как, батюшка! — проворчала старуха, — мне еще задолго до собак слышалось, что ты как будто всё жевал что-то.
— Нет… это так… ваш изюм ел.
— Ну, нечего толковать много. Подавайте бульон!
— Бульону не брали, сударыня.
— Стало быть, нам приходится обедать a la fourchette, [2] — сказал профессор, — горькая доля, господа! Перейдемте к жаркому. У кого есть жаркое и какое?
— У меня никакого. — И у меня. — И у меня, — проговорили один за другим девять голосов, принадлежавшие девяти членам пикника. Остальных трех лиц, то есть Алексея Петровича с детьми, в наличности не оказалось: никто не знал, куда они скрылись, и я уже помышлял об обязанности, которую наложил на себя касательно безопасности больных; но беспокойное, острое, пронзительное ощущение голода заглушило всякое другое постороннее чувство; особенно филантропические помышления. Как скоро увидели, что жаркое на перекличку не являлось, все поникли головами на груди, а Никон Устинович с глухим стоном заключил свой живот в объятия, как иногда два друга, пораженные одним и тем же бедствием, находят в горячих объятиях взаимное утешение, — и живот его, как будто по сочувствию, отозвался жалобным ворчанием.
— Что же у кого есть? говорите, господа! — провозгласила дрожащим голосом Марья Александровна. — Начните, профессор.
— У меня венский пирог и малага, — отвечал он.
Второй голос: — У меня конфекты и малага.
Третий: — У меня две дыни, два десятка персиков и — малага.
Четвертый: — У меня crème au chocolat [3] и — малага.
Пятый: — У меня сыроп к чаю, миндальное и — малага.
Бабушка: — У меня изюм.
И подобного рода яства, каждое в сопровождении малаги, шли до восьми голосов.
— Вот тебе раз! — сказал печально профессор, — ни бутылочки сотерну, ни капельки мадеры! Да разве был уговор всем привезти малаги?
— Нет, это простой случай.
— Как простой! самый необыкновенный и досадный!
Наконец девятый голос робко произнес:
— У меня пармезан и лафит.
Все взоры быстро обратились в ту сторону, откуда происходил голос: то был мелодический, небесный голос моей милой, несравненной Феклуши. О! как она величаво прелестна казалась в эту минуту! Я торжествовал, видя, как жадная, нелицемерно жадная толпа готова была вознести на пьедестал богиню моей души и преклонить пред нею колена. Кровь забушевала во мне, как морская волна, воздымаемая ветром до небес; сердце застучало, как проворный маятник; я гордо окинул взорами общество и забыл на пять минут о голоде, что при тогдашних обстоятельствах было весьма важно. Как ни говорите, а минута торжества любимого предмета есть божественная минута! Профессор с чувством поцеловал ей руку; Марья Александровна обняла торжествующую племянницу три раза с непритворною нежностию; все прочие, облизываясь, осыпали ее самыми лестными комплиментами; а Тяжеленко патетически изрек следующие достопамятные слова:
— В первый раз постигаю достоинство женщины и вижу, до чего она может возвыситься!
Но скоро радость превратилась чуть не в плач и рыдание: сыру было только два с половиною фунта, и девять жадно отверзшихся ртов печально сомкнулись, а в некоторых из них послышался скрежет зубов. Никон Устинович с презрением оттолкнул предложенный ему ломоть и впал в летаргическую бесчувственность. В самом деле, каково потерять надежду, которую почти держали в зубах! Все хранили грустное молчание и угрюмо поедали сласти, запивая малагою. К концу этого необыкновенного обеда подоспел измученный Алексей Петрович, без шапки и без перчаток, как у него всегда водилось, с двумя детьми и тремя ершами.
— Есть! есть! ради Христа и всех святых, есть! — Но ему оставалась одна малага — приторная насмешка случая над обманутым аппетитом, доведенным до крайних пределов, за которыми начинаются муки исполинской казни голода.
Обед заключился крынкой молока. Однако малага произвела обычное действие: все развеселились, а Зинаида Михайловна пришла в необыкновенный восторг; она, встав из-за стола, начала пощелкивать нежными пальчиками, притопывать ножкою и весело напевать вариации на тему: «А я, молодешенька, во пиру была».
— Помилуй! ты на ногах не стоишь, моя милая! — сказал ей дядя.
— Да и не вижу в том большой надобности! — отвечала она так мило, с такой очаровательной улыбкой, с таким упоением в глазах, с каким бы я тогда готов был… поцеловать у ней ручку, да не посмел!
Зуровы предложили было после обеда прогулку; но я, полагая, что пришла минута действовать, приступил с посильным красноречием к святому делу.
— Ни с места! — сказал я, — выслушайте меня! — Тут я, не хвастаясь скажу, искусно развернул перед ними картину бедственной страсти со всеми ее ужасными последствиями. Они внимательно слушали и по временам переглядывались. Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Петр Пустынник, только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал; наконец, довел до катастрофы.
— Вы одержимы ужасным, доселе неслыханным недугом, которому нет примера, нет названия ни в веках минувших, ни в настоящее время, ни в странах отдаленных, ни пред очами нашими. — Тут в речи у меня прекрасно были помещены противное, свидетельства и примеры. — Вы погублены, ослеплены, увлечены в пропасть, и виновник вашей гибели еще здесь, еще жив, еще разделяет вашу трапезу!! Вот он! — сказал я, указывая на Вереницына.
Каков оборот, почтенные читатели! Припомните одно подобное место в которой-то речи Цицерона против Катилины.
— Вот он! — повторил я с большею силою. Гляжу, и… что же? все спят мертвым сном. Я чуть не лишился чувств. — В город! — воскликнул я громовым голосом, так что все вскочили в одно время.
— За город! — завопил спросонья Алексей Петрович. Я повелительным жестом привел всех в движение. Кучера в минуту запрягли экипажи.
— Как же мы славно погуляли! — сказали оба вдруг, Зуров и Вереницын, влезая в шарабан.
— Какие места! — прибавили Марья Александровна и Зинаида Михайловна, и как мы здесь повеселились! Когда-нибудь в другой раз приедем.
В десять часов мы поехали из селения, а к трем только что добрались до Петербурга. На этот раз все попытки Зуровых останавливаться на дороге, «походить по ночной росе», как просились Марья Александровна и Зинаида Михайловна, были безуспешны: мы с Тяжеленкой решительно воспротивились и действовали сообразно принятому намерению.
Подъехав к Воскресенскому мосту, передовой экипаж остановился. Я, вообразив, что причиною остановки было какое-нибудь загородное желание Зуровых, хотел уже напомнить им, что мы в городе, как вдруг увидел или, точнее, не увидел моста.
— Где же он? — спросил я у будочника.
— Разве не видите, барин, что развели! — отвечал он.
— А когда наведут?
— Часов в шесть.
— Поздравляю вас, mesdames: нам нельзя попасть домой: мост разведен!
Вдруг все мои больные встрепенулись.
— Так можно ехать опять за город! — закричали они. — Что теперь дома делать! Эй, Парамон! ворочай назад!
К счастию, зараза не приставала к кучеру, между тем как голод и сон давно одолевали его. Он с жалостной миной взглянул на меня.
— Стой на одном месте! — сказал я. — Он обрадовался и проворно соскочил с козел. Вдруг стал накрапывать дождь; надо было искать приюта. У Марьи Александровны от холода показались слезы; Зинаида Михайловна и милая Фекла едва переводили дыхание и жалостно просили есть и пить, а есть и пить было нечего. Профессор и Алексей Петрович, сидя в шарабане, дремали, беспрестанно кланяясь друг другу в пояс; а из Тяжеленки исходили по временам глухие стоны. Между тем Марья Александровна, разглядывая от скуки окружавшие нас домы, вдруг остановила лорнет на одной вывеске, и радость заблистала в ее глазах.