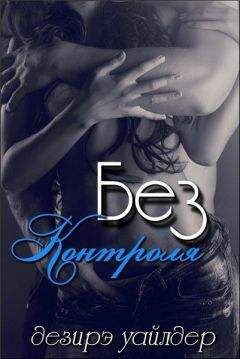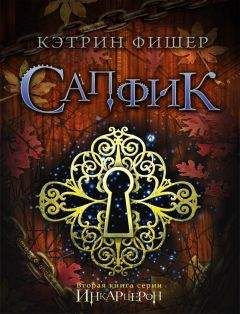Анатолий Гребнев - Записки последнего сценариста
Главная же причина популярности болшевского дома - тут, надеюсь, со мной согласятся старые его обитатели - совсем не материального порядка.
У Блока в стихотворении "Поэты", моем любимом, описан "пустынный квартал на почве болотной и зыбкой", где "жили поэты", по-видимому, целой колонией, "и каждый встречал другого надменной улыбкой". "Когда напивалась, то в дружбе клялась" и т. д.- а под конец гениальные строфы о том, что такая жизнь ничем не хуже благополучной жизни обывателя:
Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта всемирный запой
И мало ему конституций...
Я так и не смог выяснить расположение этого "пустынного квартала", вероятно, Дома творчества того времени. Судя по упоминанию моря ("смотрели, как море горело"), дело происходило где-то на берегу залива, скорее всего Финского, может быть, в районе нынешнего Репина или Зеленогорска, но, повторяю, нигде никаких указаний на сей счет не обнаружено.
Думаю, что Дома творчества или нечто подобное, как бы оно ни называлось,- продукт нашей, российской, а тем более уже и советской традиции: жить бок о бок с коллегами, все в куче,-как это на самом деле соответствует нашей психологии, уровню жизни, если хотите; поискам защиты и опоры друг в друге. И это, если на то пошло, совсем не худшее, что нам досталось от прежней эпохи.
Помню, в Париже, куда мы приехали небольшой делегацией, впятером, с нашими фильмами, один из нас, режиссер, спросил капризно, обозревая публику в небольшом зале: а где, собственно говоря, ваши ведущие режиссеры? Где Трюффо, где Годар, не вижу Алена Рене! Ему ответили: месье, дело в том, что господа, которых вы имеете в виду, либо снимают свои картины и очень заняты, либо, если они свободны, то что им делать в Париже, они уж где-нибудь на Багамских островах.
Я тогда грешным делом подумал: ну нет, братцы, это не жизнь. То ли дело у нас в отечестве: пришел в Дом кино - все тут как тут, приехал в Болшево - опять увидел всех!
От бедности, скажете вы. Может быть, и так. Но кто сказал, что бедность не имеет своих каких-нибудь преимуществ, ну, может быть, идеального свойства.
С годами болшевский заповедник наш постепенно приходил в запустение. Это происходило на моих глазах. Помню зиму, когда было нас там пять-шесть человек. Обезлюдели дорожки. Сменились поколения. Уж не знаю, кто там из нас теперь на Багамских островах, но, похоже, отпала сама необходимость в ежедневном общении, да и требования к комфорту стали другие. Теперь, который уж год, в Болшеве капитальный ремонт, за дело взялась, говорят, итальянская фирма, комнаты все будут с удобствами, сколько-то комнат обещали оставить для нас.
Итак, в первой половине 60-х дом в Болшеве был полон. Человек, попавший сюда, мог лицезреть весь цвет отечественного кино. Классики были общительны. Они запросто вступали в контакты с простыми смертными, играли в преферанс за двумя круглыми столами на втором этаже, гуляли, как уже сказано, по дорожкам вокруг дома. Сейчас я корю себя за то, что в спешке вечной норовил пробежать мимо скучавшего в своем кресле Утесова или слушал вполуха байки Марка Семеновича Донского из времен гражданской войны, где ходил он, как уверял сам, с маузером. Утесов, кстати сказать, был в жизни совсем непохож на эстрадника - начитан, знал классику, писал стихи серьезного содержания, и очень неплохие.
Сколько же я тогда недослушал! Режиссер Вера Павловна Строева, необъятной полноты, с все еще красивым лицом и живостью необыкновенной, однажды, спасибо ей, все-таки схватила меня за пуговицу, и я узнал подробности о Маяковском, с которым они, оказывается, были дружны. Вера Павловна утверждала, что мысль о самоубийстве преследовала поэта много лет как навязчивая идея; он говорил об этом и с ней - задрав сорочку, показывал кружок, очерченный химическим карандашом на груди: вот сюда я должен выстрелить...
Классики охотно рассказывали о себе и друг о друге, не скрывая и каких-то старых счетов и обид, связанных чаще всего с награждениями или, наоборот, утеснениями былых времен.
Мой приятель, острый на язык грузинский режиссер, называл их "орденоносцы", и, если даже отбросить пренебрежительный смысл, своя правда в том была. Нынешнее поколение уже и не знает этого пошлого словообразования, оно давно вышло из обихода, а ведь было знаком целой эпохи. "Орденоносцы", люди, удостоенные отличий, составляли привилегированный слой общества, его элиту. Ордена не держали, как теперь, в дальних ящиках, их носили. Это было серьезно. Уже в году 1970-м, даже, кажется, позднее, Сергей Юткевич при мне звонил председателю Госкино по поводу какого-то празднества, где полагалось быть при орденах, и спрашивал, надевать ли ему албанский орден, учитывая состояние советско-албанских отношений. Юткевич получил его в свое время за совместный фильм "Великий воин Албании Скандербег".
Постепенно, как мы знаем, отношение к орденам менялось. Мой старший друг Юлий Яковлевич Райзман, имевший целый набор орденов и медалей, два или три ряда, оставил их на одном старом пиджаке допотопного покроя, чтобы не портить новые. Но тогда, когда их получали, это было, по-видимому, каждый раз важным событием, источником радостей или огорчений, если тебя обошли. Гуляя по дорожкам с "орденоносцами", я застал однажды уморительную картину: старики заспорили о том, кто когда что "получил", имея в виду в том числе и звания. Оказалось, что такой-то был еще "заслуженным деятелем", когда другому за его прыть пожаловали "народного", третий же, наоборот, удостоен был всего лишь ордена "Знак почета". И это все - в далеком полузабытом тридцать каком-то году, а вот поди ж ты, живы до сих пор раны и обиды. Слаб человек, Сталин знал это, как никто другой!
Иногда в отсутствии друг друга у "орденоносцев" развязывались языки, и тут можно было услышать немало такого, что недоступно никаким биографам. Марк Семенович Донской с упоением рассказывал историю, как Юткевич, собираясь то ли в Канн, то ли в Венецию на фестиваль, одолжил у приятеля-музыканта фрак. Съездил и вернул, но вскоре хозяин фрака обнаружил, что тот на нем не сходится. Оказалось, что Юткевич перед поездкой перешил его на свою фигуру. "А, каково!" - говорил Донской.
Зато уж сам Марк Семенович в отношении того же Юткевича отличился в свое время, как никто другой. В 1949-м, когда разоблачали буржуазных космополитов, Юткевич попал в их число, ему ставили в вину труды о западном кино, за которые он получил докторскую степень. Вот тогда-то Марк Донской и прокричал с трибуны: "Отдай доктора!" - слова, вошедшие в легенду.
Одним словом, тут было что послушать.
Что касается Юткевича, то "доктора" он не отдал, дело в конце концов утряслось. Почему-то в кинематографе "безродных космополитов" травили не так усердно, как в театральном мире. Уж там люди на годы оставались без куска хлеба. Кстати, и в тридцать седьмом году кинематограф был, в общем, пощажен, из классиков не пострадал никто. Объясняют это особой любовью Сталина к искусству кино, где был он, как известно, единоличным верховным цензором и законодателем, вроде как своим человеком. Так или иначе, уже к началу 50-х Юткевич был в порядке и мог продолжать свою деятельность "в защиту мира", то есть ездить по свету, позировать Пикассо, беседовать с Арагоном на чистом французском.
В этом незаурядном человеке поражало сочетание нестыкующихся, казалось бы, материй: эстет, авангардист, западник до мозга костей, он как режиссер изрядно послужил ортодоксально-кондовому соцреализму, и не только в те годы, когда его поколение создавало "советскую классику" - в ней есть и его вклад: знаменитый "Встречный" с музыкой Шостаковича, "Человек с ружьем" со Штраухом в роли Ленина,- но и в дальнейшем: "Последняя осень", "Ленин в Польше", "Ленин в Париже" - вся его "Лениниана", по поводу которой им же и написаны целые тома! Как это все в нем уживалось?
А еще и общественная деятельность. Хорошо помню обсуждение на Васильевской, в Белом зале, после просмотра картины Райзмана "А если это любовь?", Юткевича на председательском месте. В то время такие обсуждения устраивались неспроста, а именно в тех случаях, когда требовалось дать картине "партийную оценку", и Сергей Иосифович, помнится, весьма в этом преуспел. Странно, но этот эпизод не оставил следа в последующих отношениях двух знаменитых режиссеров. Обиды, похоже, не осталось. Как, впрочем, и в отношениях Юткевича с Донским. Интересное все-таки поколение!
Конечно, личностью он был выдающейся (продолжаю о Юткевиче). Эрудицией, знанием смежных искусств, неутолимым интересом ко всему на свете - поражал. Другого такого не было. Художник оставляет после себя не только образы своих произведений, но иногда и собственный образ, легенду, которая тоже становится фактом искусства, порой не менее впечатляющим, чем сами его творения. В течение шести с лишним десятилетий, со времен Фореггера и раннего Эйзенштейна, Юткевич с его спектаклями, фильмами, статьями, репутацией, кругом общения был сам по себе явлением культуры, заметным и долговечным. Он дожил до апреля 1985-го, окончив свой путь на самом рубеже двух эпох. Как принял бы он то, что произошло уже год спустя, можно только гадать.