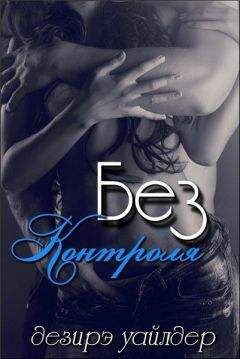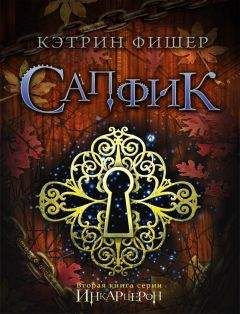Анатолий Гребнев - Записки последнего сценариста
Год спустя Марлен Мартынович говорил в своих интервью, что "Июльский дождь" - вторая часть задуманной им дилогии. Если первая называлась "Мне двадцать лет" (название, под которым "Застава Ильича" вышла в прокат), то вторую с успехом можно было бы назвать "Мне тридцать лет". Меня это нисколько не обидело, скорее обрадовало: без такого "присвоения" идеи, чьей бы она ни была, режиссер не может снимать картину. В ней все должно быть выстрадано им самостоятельно, присвоено, да, конечно. Те, кто этого не понимает, не должны идти в сценаристы.
В другом интервью по поводу "Июльского дождя", отвечая на вопрос, о чем картина, Марлен Мартынович сказал, что поймет это тогда, когда закончит ее. И это было правдой. Усаживаясь за работу в нашем зеленом домике, мы имели о сценарии самое смутное представление. Сочинив сцену, придумывали следующую, почти ничего не зная наперед. Это, вообще-то говоря, не дело, так не работают. Но зато какое удовольствие, кайф, как сказали бы теперь. Когда у тебя под пером возникает сам собой сюжетный поворот, а то и целая сцена с персонажами, о которых минуту назад ты не знал, это, конечно, захватывает. Так в "Июльском дожде" появились целые роли, например седого Алика, которого играет Визбор, или Владика, которого играет Митта. Писали сцену вечеринки, и оба они там возникли, а потом остались.
Конечно, этот метод импровизаций чреват какими-то потерями. Пьесу, по крайней мере, так не выстроишь. Но мы и не выстраивали, тем более пьесы. И уж точно отказывались от любого хода традиционной драматургии, как от вранья, там, где это у себя замечали. Вот тут у нас споров не было.
Он мне как-то сказал, давным-давно, что строит в своих фильмах монтажную фразу по образцу фразы литературной: подлежащее, сказуемое... придаточное предложение... сложносочиненное и т. д., то есть как бы сочиняя в уме текст и перенося его на экран. Это интересно. Это - кинематограф повести, а не пьесы, кинематограф нюансов, способный передать жизнь в богатстве ее оттенков и смыслов. Это вызов кинематографу - "грубому искусству", каковым его почему-то с удовольствием, в самооправдание, что ли, называют многие среди нас.
И это то, в чем мы были согласны, не сговариваясь.
Уже во время съемок и монтажа Хуциев боролся со сценарием, и я, как мне кажется, помогал ему в этом.
Борьба со сценарием - это процесс естественный и необходимый для режиссера. Это как борьба с самим собой, без чего нет творчества.
Сценарий испытывается на прочность. А вот, смотрите-ка, здесь у нас, оказывается, липа, натяжка. А тут слова, которые не нужны, поскольку ясно и без слов. То есть, может быть, нужны на бумаге; может быть, даже на экране с другим актером, но не с этим, не здесь...
А в нашем случае, как выяснялось по ходу съемок, имели место некоторые мотивы из арсенала привычной советской драматургии. Надо же, не углядели. Вся линия Шаповалова, то есть директора института, где служит Володя, наш герой, была как раз из этого ряда. Володя и друг его Лева писали за Шаповалова какие-то научные труды, то есть капитулировали морально перед человеком из "прошлого времени". И наша героиня, так получалось, расставалась с Володей чуть ли не по этой причине. Там было все несколько сложнее, и тем не менее. Типичная ситуация советской драматургии, уразумели мы наконец. Даже не так уразумели, как почувствовали. Хуциев выбрасывал одно за другим звенья этой цепочки. Шаповалов, научные труды все вразброс, пунктиром. Не "прояснить сюжет", как обычно призывают нас дотошные редакторы, а наоборот - разорвать его, смешать карты, упрятать в подтекст. Герои наши, Лена и Володя, расстаются, мирятся, расстаются вновь безотносительно к его, так сказать, общественному поведению, по причинам, так и не проясненным, скорее ощущаемым, и это дает другой объем всей истории. На вопрос "почему" нет прямого ответа. Всё вместе. "Я не пойду за тебя замуж, Володя..."
Само собой разумеется, ни о каком "зрителе" речи не было. Тема эта даже не обсуждалась. Человек исповедующийся не думает о том, какое он производит впечатление и как бы сделать поинтереснее. Мы делали картину, прощу прощения, для себя. Это не высокомерие, не снобизм. Делая картину для себя, мы не отрывались от вас, дорогой зритель, мы скорее идентифицировались с вами, простите за трудное слово. Оно означает знак равенства. Надо еще подумать, в чем больше высокомерия - в отношениях продавца и покупателя, когда фильм делается на потребу публики, или когда идет разговор на равных: вы - это я.
Тут самое время сказать об этой неповторимой ситуации, когда фильмы "для себя" можно было снимать за казенный счет, не беспокоясь о деньгах, не думая о выручке. Один из замечательных парадоксов ушедшего времени. Как мы этого тогда не ценили!
Борьба с сюжетом, к счастью, не вовсе затуманила смысл картины, и кто-то смог в ней прочесть или хотя бы почувствовать, что хотели сказать авторы. Повторю: мы не формулировали никаких идей; если они оказались там, то сами по себе, то есть где-то, значит, они были. Штучное кино, в отличие от фабричного, небезразлично к личности автора, его образу мыслей. Так или иначе, хочешь ты того или нет, ты в своей картине выясняешь отношения с целым миром, и с обществом и властью в том числе.
Герои "Заставы Ильича" вслед за Хуциевым и Шпаликовым искали духовной опоры в этой самой "картошке, которую ели в войну" и "песне Интернационал". Для героев "Июльского дождя" символ веры этот был потерян, они жили на излете шестидесятых, времени надежд и упований. Так совпало, кстати говоря, что в тот самый день, 15 октября, когда сценарий был закончен, поставлена последняя точка и мы с Марленом собирались распить по этому поводу бутылку с друзьями - дело было все в том же Болшеве,- приехал из Москвы взволнованный Юра Егоров, режиссер и одновременно начальник главка, затащил нас в комнату и, прикрыв дверь, сообщил новость: сняли Хрущева! Всю ночь мы не спали, ловили по радио "голоса" - никто у них там ни, в каком Би-Би-Си, еще ничего не знал, а мы тут в Болшеве уже знали! С тех пор скептически отношусь к "голосам"...
Чем жить, во что верить? Этот, может быть, чисто русский вопрос витал над нами и нашими неприкаянными героями. "А вы когда-нибудь прививали себе яд кураре?" - спрашивает вдруг Лена, и этот вопрос, неожиданный и неуместный, врезается тревожной нотой в сцену ночного пикника, где говорят ни о чем и обо всем и играют в слова. Двое каких-то ребят медиков где-то, кажется, в Киеве, рассказывает Алик, правили себе яд кураре в целях эксперимента, искали средство для обезболивания... Вот, видимо, на что еще можно опереться в этой жизни, все, что нам осталось,- личный героизм, бескорыстие. И еще, наверное, вот это, бескомпромиссное: "Я не пойду за тебя замуж, Володя".
И еще - скверик у Большого театра, ветераны войны. И песня оттуда, из тех времен, голос Утесова: "Брянская улица на запад нас ведет". Лица совсем юных людей у театрального портала, среди них сын Хуциева Игорь... Вопрос? Надежда?
Никогда не забуду, как мне позвонил вечером из мосфильмовской монтажной Хуциев: "Бери такси, приезжай срочно!" - без объяснений. Что случилось? Ловлю такси, приезжаю. Марлен в слезах. "Вот, смотри и слушай". На маленьком экране, на монтажном столе - кадры: Большой театр, скверик, ветераны в орденах. Чей-то блуждающей взгляд, человек высматривает возможных однополчан. А кто-то уже догадался поднять над головой табличку: такой-то мотострелковый полк... То была, если не ошибаюсь, первая такая встреча в этом скверике перед Днем победы, никто до нас ее не снимал, а мы снимали впрок, еще до запуска картины, не зная, куда и зачем. Снимали с руки, хроникально, одновременно записывали и звук. В последний момент, уже найдя этой сцене место в финале фильма, Хуциев попробовал заменить речевую фонограмму музыкой. И вот сидел за монтажным столом, гонял туда-сюда изображение, подкладывая музыку, то одну, то другую, наугад. И наконец "Брянская улица", Утесов. Как толчок в сердце - оно!
Бросился звонить. Пытливо смотрел мне в глаза, ожидая реакции. Был очень раздосадован, что я не залился вместе с ним горючими слезами, а просто одобрил.
Он не лукавил, не кокетничал, когда отвечал журналистке, что поймет, о чем картина, лишь после того как снимет и сложит ее. Снятый материал, как это часто бывает, сам по себе становился реальностью, вступал с вами в какие-то отношения, чего-то требуя, что-то отвергая. Чтобы это услышать, нужно быть кинорежиссером, нужно им родиться.
Актеры наши, он и она, с самого начала почему-то, скажем теперь откровенно, невзлюбили друг друга. И в фильме есть эта холодность друг к другу, нет страсти и чувственности любовников, и здесь это кстати, тут свой, может быть, дополнительный смысл. В сцене последнего объяснения оба они стоят в белом, фронтально, неподвижно, скрестив руки на груди, на фоне белой стены и окна с белым туманом, и эта холодная стерильная белизна и замороженность, счастливо угаданная режиссером, а вместе с ним и оператором Германом Лавровым, придают сцене какое-то надбытовое значение. Первоначально это снималось на осеннем пляже в Туапсе, и мы, собственно говоря, специально за этим ездили, жили в экспедиции. Но уже в Москве, как всегда, в последний момент Хуциев решил переснять сцену в павильоне, оставив от нашей экспедиции лишь кусочки, почти без слов,- и оказался прав, интуиция не подводит.