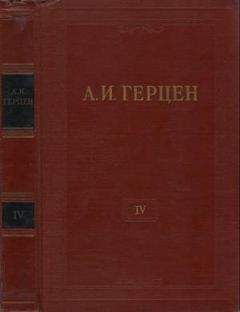Александр Герцен - Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник
29. В Вигандовом журнале статья Иордана об отношении всеобщей науки к философии весьма замечательна. Критика, снявшая религию, стоя на философской почве, должна идти далее и обратиться против самой философии. Философское воззрение есть последнее теологическое воззрение, подчиняющее во всем природу духу, полагающее мышление за prius[373], не уничтожающее в сущности противуположность мышления и бытия своим тождеством. Дух, мысль – результаты материи и истории. Полагая началом чистое мышление, философия впадает в абстракции, восполняемые невозможностью держаться в них; конкретное представление беспрерывно присуще; нам мучительно и тоскливо в сфере абстракций, – и срываемся беспрерывно в другую. Фил<ософия> хочет быть отдельной наукой, наукой мышления und darum zugleich Wissenschaft der Welt, weil die Gesetze des Denkens dieselben seien mit den Weltgesetzen. Dies muß zunächst umgekehrt warden: das Denken ist nichts Anderes als die Welt selbst, wie sie von sich weiß, das Denken ist die Welt, die als Mensch sich selbst klar wird[374]. А потому нельзя наукою мышления начинать и из нее выводить природу. Фил<ософия> – не отдельная наука, на место ее должно быть соединение всех ныне разрозненных наук.
Июль.
1. Der Mut der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums; der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten. Das verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft in sich, welche dem Mute des Erkennens Widerstand leisten könnte, es muß sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse bringen. – Hegel’s «Anrede an seine Zuhörer». 1818, Berlin[375].
К этому надобно только присовокупить, что такую же веру, твердую и непоколебимую, должно иметь и к природе, и этой вселенной, которая не имеет силы скрыть свою сущность перед духом, потому что она стремится раскрыться ему. Потому еще, что, открываясь ему, она открывается себе.
4. Писал статью для нового журнала (который будет ли – бог и Уваров знает) об натурфилософии. По этому поводу прочитал или, лучше, пробежал Шиллера историю натурфилософии от Бэкона до Лейбница; скучная книга, хотя и есть интересные подробности. Какая необъятная разница с Фейербаховой историей! Потом попалась известная брошюра Фихте о назначении человека, я ее очень давно читал, лет 12 или больше тому назад. Не помню, в которую эпоху он писал, но странно удовлетвориться этим profession de foi как последним словом. Отвлеченное умозрение не спасает его от скептицизма, знание не удовлетворяет, он хочет деяния и веры (непосредственного и созерцательного начала). Но вера его приводит не к реальному, а идеалистическому миру; правда, этот духовный мир у него и здесь и jenseits[376], т. е. сфера духа Гегеля и отчасти религиозная будущая жизнь, но в основе ему лежит какое-то странное желание быть неземною, – дань ли это времени или требование стоической, строго нравственной натуры? Он волю ставит выше деяния.
8. Прения о праве вскрытия писем в Лондоне. Там жаловались Маццини и какой-то поляк, что у них министерство читает письма. Возмутился гордый дух законности у порядочных англичан, дебаты кончились ничем, но высказанное велико и прекрасно. Между прочим, оппозиция заметила, что подлейшее в этом – запечатывание письма, что если нужно, то правительство должно делать открыто вскрытие и отмечать на письме, а иначе это подлое шпионство и фальшивый поступок. А у нас – боже мой – лучше и не оборачиваться.
9. «L’Alcade de Zalameya» Кальдерона. Характер Pedro Crespo превосходен, Don Lope и Etimelle также, миф прекрасный и чрезвычайно драматический, особенно в третьем дне. Велик испанский плебей, если в нем есть такое понятие о законности, – вот он, элемент, вовсе не развитой у нас не токмо у мужика, но и у всех. У нас оскорбленный или снесет как раб, или отомстит как взбунтовавшийся холоп. Я смотрю здесь беспрерывно на низший класс, в всегдашнем соприкосновении с нами, – чего недостает ему, чтоб выйти из жалкой апатии? Ум блестит в глазах, вообще на десять мужиков, наверное, восемь неглупы и пять положительно умны, сметливы и знающие люди; их много клевещут с нравственной стороны, они лукавы и готовы мошенничать, но это тогда, когда становятся в противуположность нам. Иначе не может быть, мы явно и законно грабим их, сила не одинакая. Но когда они убедятся в человеке (и я имею гордость себя включать в это очень и очень ограниченное изъятие), тогда они поступают просто, даже наивно. Они не трусы – каждый пойдет на волка, готов на драке положить жизнь, согласен на всякую ненужную удаль, плыть в омуте, ходить по льду, когда он ломается, etc. А, видно, как Чаадаев говорит в своей статье, чего-то недостает в голове, мы не умеем сделать силлогизм европейский. Эта община, понимающая всю беззаконность нелепого требования, не признающая в душе неограниченной власти помещика, трепещет и валяется в ногах его при первом слове!! Memento mori! Разные memento стоят навсегда, как погребальные памятники в воспоминаниях. Иной раз идешь гулять и невзначай забредешь на кладбище – и сделается тяжело. Правда ли это, что в духе человеческом, как в море, ничего не пропало, что кануло в него, а хранится на дне и при первой буре готов всё выбросить, как упрек? Или только то хранится, что ядовито или жестко, а прекрасное, как эфирное масло улетает, оставляя неопределенное благоухание? Многое горькое вспомнилось; нет примирения, видно, до гроба, а за гробом ни войны, ни мира – одна логика. Пусть тешатся другие.
10. Читаю Маржерета и только что кончил Бера. Бер очень туп, Маржерет мил, как француз и aventurier[377], притом много у него схвачено живо. И после всего этого не видеть необходимости петровского переворота? Нечто сильное бродит неустроенно и дико середь давящей, гнетущей и узкой государственной формы; как было не разбить этот пошлый сосуд народной жизни; как бы ни отречься, лишь бы отречься от этого мира местничества, нелепого патриархализма и совершенного неведения достоинства человеческого. Годунов, гениальный человек, падет жертвою династической нелепости, а больше переменчивости народного характера, бросающегося нелепо на все. Первый Димитрий, энергический воин, образованный, благородный юноша, падет за то, что ел телятину. Плут, совершенно в русском характере, староста-мошенник, Шуйский падет за то, что избран одной Москвой и что теряет сражения (тут есть хоть смысл), и в то же время пол-России стоит за грязного тушинского вора, представителя, пожалуй, не демократической, а кабацкой партии. Потом дума – думала, думала да и выбрала мальчика царем, и покорилась вся страна старику монаху – патриарху при тушинском воре и сделавшемуся в самом деле патриархом всероссийским. Между прочим, Маржерет говорит о веротерпимости русских, это почти была бы аномалия, если б в самом деле религия так сильно была вкоренена в народе. Правда, они строго уважали формы, а этот формализм всего склоннее к нетерпимости, но у нас и эта сторона жизни не имела глубоких корней.
15. Wer gegen das Endliche zu ekel ist, der kommt zu gar keiner Wirklichkeit, sondern er verbleibt im Abstrakten und verglimmt in sich selbst – «Encycl.», I. Т. § 92[378].
16. По поводу статьи перечитывал первую часть Гегелевой «Энциклопедии»; всякий раз подобное перечитывание открывает целую бесконечность нового, поправляет, дополняет, уясняет и самым убедительным образом показывает неведение или неполноту знания. Что сделала наука с обнародования Гегелем его философии, а она была обработана в 1818 году, т. е. 25 лет тому назад? Только научились его понимать и кое в чем поправили язык его, привыкнувший слишком к школьной глоссологии и, несмотря на всю мощь своего гения, к представлениям, – более ни шагу.
71. В. «Allgemeine Zeitung» статья о новых открытиях по части палеонтологии. Важное расширение к пониманию развития органической жизни. Агассис доказал разбором ископаемых рыб, что каждый геологический период имеет целое население свое, не сходное (кроме, разумеется, общих характеристик) ни с предыдущим, ни с последующим. Еще более, он открыл, что чем древнее период, где найдены рыбы, тем более неразвитому, детальному состоянию соответствуют рыбы. Это напоминает теорию Жоффруа Сент-Илера о том, что высшие млекопитающие переходят в утробе матери главные фазы животного царства от инфузории до млекопитающего.
Открытия д’Орбиньи, рассматривавшего наиболее ископаемые беспозвоночные, ведут к тому же заключению. Но Эренберг с своими инфузориями еще ничего не открыл указывающего на соотношение их форм с периодами. Известно, что Эренберг доказал, что целые слои известняку и разных горнокаменистых слоев принадлежат чешуе инфузорий!
20. Кончил первое письмо об естествоведении. Кажется хорошо, а впрочем, сначала все написанное кажется хорошо. Надобно перечитать через месяц или два. Вот беда журналистов и их сотрудников – они всё печатают сбрызгу и, вероятно, дорого иной бы раз дали за право вырубить топором закрепленное типографским станком.
Начал вторую часть Гфререра, интерес поглощающий. Древний мир, умирая, утратил почти все человеческое достоинство; то, что было посеяно всеми цезарями, развилось при Диоклетиане. Диоклетиан делается царем в смысле восточном в нашем смысле он отрезывается ото всех, он является мистическим лицом, божеством. В Риме воздух был не хорош для таких затей. Диоклетиан, живший в Никомедии, раз приехал в Рим, но и то ускакал в Равенну. Рим – это европейская почва! Новой, поглощающей всякую свободу власти надобно было новый город, свой Петербург, – Константин нашел его. Диокл<етиана> монархия вполне развилась при Константине – гнусная, рабская, чиновничья, подлая; народ был до того обременен налогами, что толпами бежал с своих земель, – пытка, которой не смел Нерон et Cnie подвергать римских граждан, распространилась на всех в делах оскорбления величества. Восточные христиане и их духовенство утратило тогда благородство первых веков, оно стало в подлом отношении к власти и освободиться не могло впоследствии. Оно, как все высшие натуры, до того пренебрегало действительностью и до того жило в сфере теологических тонкостей, что не замечало своего подлого положения относительно власти. Константин принял благословение новой церкви и им окончательно укрепил отвратительное самодержавие свое. Евсевий рассказывает, что он смел называть себя «епископом вне церкви» и сам называет его всеобщим епископом. Его трон стоял в церкви возле епископского, он имел право входить в алтарь. Амвросий Медиоланский, возмущенный этим, велел первый трон Феодосия поставить вне хора. Константин распоряжался с церковью как хотел. Она молчала, греческая святая церковь, и встречала в 448 году императора Феодосия II словами: «Да здравствует император и первосвященник!» Никогда западное духовенство не падало до этой степени, римская почва осталась чиста; хорошо, что столица была перенесена. Зато византийские епископы богатели. За это они могли и Константина назвать равноапостольным. Гнусному порядку азиатского деспотизма в Римской <империи> принадлежит честь укрепления мужиков (coloni) в рабство. Бедные мужики кабалили себя богатым собственникам земли, потому что не могли платить подати. Как же не византийская кровь перешла в наше государственное устройство? По плодам – корень. Да и по корню – плоды.