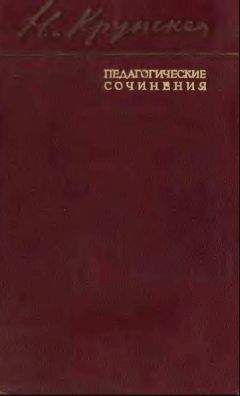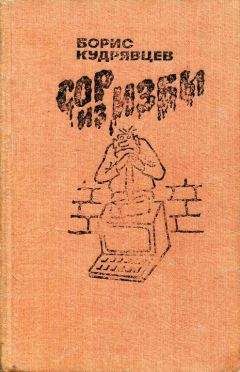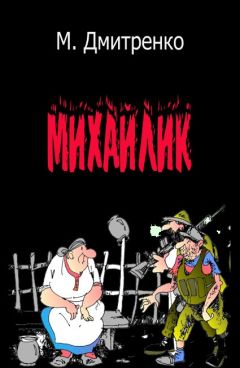Зинаида Гиппиус - Том 7. Мы и они
Арцыбашев ли со своим Саниным, Блок ли с Прекрасной Дамой, – одинаково все они относятся к женщине реальной, к индивидууму человеческому, как к отвлеченной Женственности, а к Женственности – как Вейнингер к своему «Ж». Больше скажу: сами женщины относятся совершенно так же к самим себе. Сочинения какой-нибудь Нины Петровской: «Sanctus Amor»[59] – не более как самообъективизация женщины, признающей пол своей исчерпывающей сущностью и пишущей, как всегда в таких случаях, с помощью ассимилированных ума и «творчества».
Не думаю, чтобы такое общее положение дел могло и должно было сейчас как-нибудь измениться. Единственно, чему пришло время, – это большему осознанию данного положения. Зачем сознавать, скажут мне, если это ничего не изменит, если это сознание – сознание безысходности? Вейнингер, придя к нему, застрелился.
Это правда, Вейнингер застрелился, поняв, что такое «Женственность». Но не забудем, что именно в сознании своем Вейнингер допустил противоречия и ошибки, и только благодаря им он пришел к выводам безнадежно-отрицательным. Кроме того – всякое истинное сознание – реально, оно часть действительности, а потому новое сознание действительности есть новый факт, привходящий в эту действительность и тем самым уже как-то ее изменяющий. Во всяком случае – указывающий направление, следуя которому она могла бы и должна бы измениться. Если мы станем это отрицать – то нам придется отрицать и всякую нужду правильного диагноза болезни, которую мы не знаем как лечить. Мы, однако, открываем бациллы, против которых остаемся беспомощными; и допускаем, что не только мы, но еще десять поколений будут перед ними беспомощны, пока одиннадцатое, воспользовавшись предыдущей работой осознания, не увидит, что и сыворотка уже почти готова, что реальность изменилась. Можно взять и другой пример: революция, длящаяся месяц, изменяет реальность; но не этот месяц, в сущности, изменяет ее, он только увенчивает долгие годы работы сознания, годы, когда, кажется, ничего не происходило, все было неизменным.
Я говорю, приводя эти примеры, лишь о значении нашего сознания вообще. Возвращаясь же к Вейнингеру и к вопросам, им поднятым, – о сущности пола, о существе двух мировых начал, о взаимоотношениях полов в реальном человечестве, – мы должны признать, что если когда-нибудь тут и мыслима своя «революция» – она должна быть более коренной, нежели всякие революции научные и государственные. О ней почти нельзя рассуждать, а разве только мечтать, довольствуясь сейчас, в жизни – лишь скромной работой осознавания действительности.
С уверенностью в окончательной двойственности мира и неистребимости зла – жить нельзя. Это и доказал Вейнингер. Но если мы не повторим его ошибок, если мы увидим, что в том же мире, в том же человечестве есть и сила синтезирующая, сила единства, есть стремящаяся родиться и развиться истинная Личность, мы не сможем окончательно отвернуться от мира, не захотим проклясть его, как Вейнингер, который из-за страха перед ложным Небытием не увидел надежны растущего, молодого мира – на Бытие истинное.
Слезинка Передонова
То, чего не знает Ф. Сологуб*
Как-то раз, – давно, – рассуждая о рифмах, мы открыли, что самые глубокие слова русские – «одиноки», безрифменны. Одинока «правда», одинока «истина».
Брюсов тут же вызвался написать стихотворение с рифмой на «истину» и действительно написал свое:
Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно… и т. д.
Стихотворение прекрасное; и замечательно оно тем, что нигде, кажется, Брюсов не выразил себя с такой точностью, яркостью и верностью. Это так, но тем не менее рифма на «истину» оказалась очень несовершенной.
Мне более посчастливилось. Правда, стихотворение мое было полушутливое, не для печати; давно позабылось, и вспоминаю я отрывочные из него строки вовсе не ради рифмы (хотя и ради истины), – а потому, что хочу поговорить о Ф. Сологубе, которому это стихотворение было посвящено.
…воду извлек,
Воду живую он из стены,
Но не увидел, мудрец и пророк,
Собственной истины…
Может быть, это даже и хорошо, что Ф. Сологуб не увидел сам своего героя Передонова («Мелкий бес») и относится к нему не так, как должно. Хорошо ли, дурно ли – меня сейчас это не занимает. Я констатирую лишь факт, что и автор, и публика, которой «Мелкий бес» очень понравился, поняли, восприняли Передонова совершенно одинаково, и еще – что такое восприятие естественно, понятно и просто. В предисловии ко второму, недавно вышедшему изданию романа автор как будто спорит с читателями о Передонове, но в сущности спор этот сводится к вопросу, о ком написан Передонов: о Ф. Сологубе или о его современниках. Читатели будто бы предполагали, что автор выставил в герое себя с покаянной целью; автор выясняет дело: «Нет, мои милые современники, это о вас я писал мой роман о Мелком Бесе и жуткой его Недотыкомке, об Ардалионе и Варваре Передоновых… О вас».
Обиженный читатель мог бы тут же поймать Сологуба: как же, мол, о нас, а не о себе, если вы сами объявляли много раз, что «нас» никаких нет, а есть только «Я», т. е. вы? Значит, и Передонов ваше же собственное «Я», об этом вашем «Я», о себе, вы и писали… Не отказывайтесь, пожалуйста…
Но мы не обиженные читатели и такой словесной ловлей Сологуба не намерены заниматься. Как бы ни решать этот спор – о нас, о вас, о нем, о себе написан Передонов, – дело не меняется. Спор не по существу. «Мелкий бес» остается «сатирой», ядовитым клубком; это – магическое зеркало, обличающее недостатки… все равно каких людей, всех или почти всех, но обличающее. Кстати, и сам автор в предисловии упоминает о зеркале.
Ну вот, как искусное обличение скрытой передоновщины и был принят «Мелкий бес». Автор самолично подтверждает, что и сам так же относится к своему Передонову. Смотрите, люди; смотритесь в это верное зеркало; содрогайтесь, отвращайтесь, ненавидьте Передонова и… пожалуй, кайтесь, исправляйтесь, если можете. Автор морали не читает, правда, однако исправляться никому не возбраняется.
Нужно сказать, что этот первичный, обличительный и отвращающий смысл романа и зеркальность Передонова я вовсе не отрицаю. Роман выдерживает требования и, с этой стороны, имеет свое значение и при таком понимании. Трудно, очень трудно пройти за его тройную черту, вглубь, туда, где не бывал, кажется, и сам отец Передонова и Недотыкомки. Но в конце концов нельзя не перейти.
Помню первое мое знакомство с Передоновым, много лет тому назад. Помню кипу синеньких ученических тетрадей из магазина Полякова, исписанных высоким, ясным почерком Сологуба. Их было очень много, но не перебрав все – невозможно было оставить чтение. В романе тогда попадалось еще много колючих резкостей, исключенных потом автором, – но Передонов стоял, как стоит: во весь свой рост. И – надо сказать правду! – первое мое впечатление было как раз то, которое теперь получают от романа почти все. Меня пленяла симфония духов и Людмилочка; меня ужасала отвратительная правда, живая грязь Передонова. Что может быть ненавистнее подлого дурака, сходящего с ума? Да, да, вот кого действительно стоит ненавидеть, и если в каждом из нас сидит этот безобразный дурак, который непременно сойдет с ума, – тем более его надо ненавидеть. Бескорыстно радовало искусство автора и корыстно волновала ненависть к живому Передонову. Вот это было и тогда: вера, что Передонов существует не только в нас где-то, частично, но что жив и живой, цельный, настоящий; нет сегодня – завтра будет, вчера был; словом, может быть.
Прошли годы. Передонов «явлен» в литературе несколько раз, – «Мелкий бес» печатался сначала в журнале, потом в отдельных изданиях. Но мне, со времени синеньких тетрадей, не пришлось перечитывать романа. Думалось, что я знаю Передонова, как знают его теперь и многие; о, конечно, это самый совершенный, самый отвратительный «образ зла». Как его не ненавидеть?
Открываю наконец книгу. Яркое предисловие автора готовит меня к знакомым чувствам. Я жду их – и читаю.
Вот он, грязный и тупой Ардалион, во всей своей пакости, гниленький и вонюченький, как-то даже не сходящий, а слезающий с ума. Он неповоротливо лжет и плоско гадит. Его ненавидит не только читатель, но и все, кто с ним имеют дело: Варвара его обманывает, Людмила на него весело фыркает, директор морщится и содрогается… Передонову ничего не удается, Недотыкомка сосет его, он чувствует, что тонет, что все против него… почему это – сумасшествие, что все против него? От этого можно сойти с ума, конечно, но это еще не сумасшествие, потому что действительно, действительно, – все и всё против него…
Странное, новое, еще без мысли, чувство к Передонову вдруг шевельнулось во мне. И менее всего оно было похоже на ненависть. Не печатные страницы рассказа о Передонове, а сам Передонов с озлобленным, серым лицом проходил мимо. Его живая жизнь шла передо мною. И мне захотелось непреодолимо, чтобы случалось не так, как случалось, чтобы Варвара не обманула его, чтобы директор не прогнал, чтобы Недотыкомка была поймана и убита. Нельзя не хотеть этого. Можно хотеть не хотеть, но все равно будешь хотеть. Кой черт тут «сатира», «воплощение зла», когда живой человек, вчерашний, завтрашний Ардалион Передонов находится в таком беспримерном, беспросветном несчастий! Перед его несчастием все ужасы, так старательно нагроможденные Леонидом Андреевым, – просто бирюльки. У андреевского о. Фивейского сначала утонул ребенок, потом запила жена, потом родился идиот, потом жена сгорела вместе с домом, потом… что еще? он неестественно запсихопатил с мертвым мужиком, побежал во время грозы по дороге и умер в пыли. (Молния, что ли, в него ударила?) Не касаясь даже того обстоятельства, что Фивейский сплошь выдуман, что мы в него не верим, а потому на него нам в высокой степени наплевать, – не касаясь даже этого, можем ли мы сравнить несчастие Фивейского с передоновским? Фивейский сделан для того, чтобы ему сочувствовали и жалели его, Передонов имеет еще справедливую ненависть и презрение всех. Страдает Иван Карамазов, но он умен, у него светлая сила духа; страдает баба в деревне, страдает повешенный на веревке, – но ведь они безвинны, кто-то их любит, чьему-то сердцу легко сжаться за них: страдает ребенок, «утирая кулачонками слезы», – но он прелестен, он дорог, он свят; не один Достоевский встанет с требованием оправдания слезинки такого ребенка, не один Иван Карамазов заступится за него. Во всяком страдании есть просветы; нет их у Передонова. Некому за него заступиться. Он уродлив, зол, грязен и туп; у него нет ничего, так-таки совсем ничего; и, однако, он создан, он есть, он «я»; он, подобно каждому, «для себя – первый и сам для себя все». Серое, медленно суживающееся кольцо охватило его, душит, а он ничего не может и ничего не имеет, кроме муки удушья.