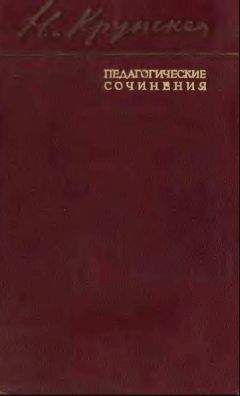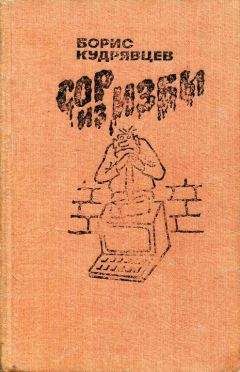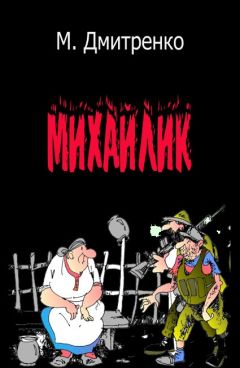Зинаида Гиппиус - Том 7. Мы и они

Обзор книги Зинаида Гиппиус - Том 7. Мы и они
Зинаида Николаевна Гиппиус
Собрание сочинений в пятнадцати томах
Том 7. Мы и они
Литературный дневник (1899–1907)*
Два слова раньше*
Есть точка зрения, с которой всякий сборник, – стихов, рассказов или статей, – бессмыслица. Автор не может не смотреть на него, в иные минуты, с досадой. В самом деле: собирают разбросанные по длинному прошлому, разделенные временем, дни, часы – и преподносят их в одном узле (в одной книжке) – сегодня. Перспектива ломается, динамика насильственно превращается в статику, образ искажен, – ничего нет.
Но есть другой, более верный, взгляд на «сборник»: взгляд исторический. Надо уметь чувствовать время; надо помнить, что история везде и все в истории – в движении. Последняя мелочь – и она в истории, и она может кому-нибудь пригодиться, если только будет на своем месте. Всякий вчерашний день – история, а всякий «сборник» именно вчерашний день.
Я не отрекаюсь ни от одной заметки в моей книге, хотя вся книга – исторична, вся – вчерашний день. Отрекаться от какого бы то ни было прошлого – опасно: это отречение ведет к потере и настоящего, и будущего. Я стою лишь за необходимость сохранения перспективы – во всех случаях «сборников»; исключаю те, конечно, которые «написаны сразу». Есть нынче и такие. Но это уже не сборники.
«Литературный дневник» – отнюдь не только мой «вчерашний день». Почти все статьи были написаны в последние годы староцензурной, предреволюционной России, в них есть капля и ее «вчерашнего дня». Журнал «Новый путь» (903905), для которого, главным образом, писались эти статьи, родился и жил в особо любопытных условиях. Он был стиснут всевозможными цензурами, как ни один из его современников. Правительственную он нес вдвойне: светскую, тяжесть которой, при Сипягине и Плеве, достаточно известна, и, кроме нее, – духовную; эта не всем знакома, не все знают, что она доходит буквально до варварства. Но кроме них – у «Нового пути» была еще третья цензура, самая, может быть, для нас, сотрудников этого журнала, – тяжелая: цензура тех, кого мы любили, как друзей, но кто нас часто считал врагом.
В те недавние – и такие давние! – исторические времена вся литературная, вся интеллигентная, более или менее революционно настроенная, часть общества крепко держалась, в своем сознании, устоев материализма. Одному Влад. Соловьеву позволялось говорить о Боге, причем его никто не слушал. «Идеалистов» еще не было на горизонте, декаденты жили скромными отщепенцами. Всякое слово мистики считалось безумием, а слово религии – предательством. Новый же путь встал против материализма, и одной из задач его было – доказать, что «религия» и «реакция» еще не синонимы. Задача, в сущности, скромная, но при тогдашних условиях – почти не выполнимая. Работники «Нового пути», сдавленные с трех сторон, должны были вырабатывать уже не «эзоповский» язык, – а совсем какой-то неслыханный. Это, конечно, не удавалось. Проходить между тремя, да еще столь разнообразными, цензурами, не задев ни одной, – нелегко. Духовная цензура запрещала прямо темы, выбрасывала все целиком. Выдумывались другие, что-нибудь «около»; тогда, из пропущенной «духовенством» статьи, – светская цензура выкидывала кусками и фразами как раз то, чем мы наиболее дорожили; и, в конце концов, третья цензура часто была права, находя «Новый путь» недостаточно живым, упрекая нас чуть не в «клерикализме».
Вскоре к трем цензурам прибавилась и четвертая: цензура начинающих оперяться декадентов. И они были нашими друзьями; но и против них мы шли, потому что их «религия», – эстетизм, обожествление «чистого искусства», – была для нас неприемлема. Мы хотели создать другие ценности, не признавали «красоту» – высшей и всеобъемлющей. Время для такого сознания не пришло (может быть, и теперь еще не пришло), – «Новый путь» не мог жить между четырьмя сдвигающимися стенами, – по его слабые попытки имели свое значение, хотя бы самое малое, и потому я рассказываю его историю, исторические условия, при которых он жил и при которых были написаны статьи моего «сборника».
С тех пор многое переменилось… А иногда кажется, что не только не многое, а почти ничего не переменилось. Если бы сегодня возродился «Новый путь» – то ведь это было бы не буквально то же, но соответствующий своему времени «Новый путь»; и он, конечно, опять встал бы в те же отношения со всеми цензурами; только борьба, вероятно, была бы ярче и открытее. Сегодняшний день всегда ярче и открытее вчерашнего. Если бы это не было правилом (с исключениями, правило подтверждающими) – то не стоило бы и жить.
Сегодняшнего «Нового пути» с его сегодняшней борьбой еще нет, однако; этого не следует забывать, не следует к прошлому прилагать современную мерку, предъявлять сегодняшние требования, – словом, нельзя смотреть на «сборник» мой не с «исторической» точки зрения.
Что касается статей о русской литературе, написанных позднее, для журналов чисто эстетических, – то хотя и эти статьи, в известном смысле, тоже «вчерашний день» – их историзм еще очень неясен. Может быть потому, что в литературе вчерашний день, – вернее вчерашний вечер, – замедлил, длится, и нового утра нет. Оно будет, – но пока его еще нет. Городецкие да Ценские, Блоки да Горькие, имитаторы да стилизаторы, экспроприасты да ориасты – разве это не вчерашний день, не петербургская майская заря, противоестественно горящая в небе, когда ей следовало бы давно умереть?
Впрочем, пусть ее. На то мы и Россия, чтобы у нас заря вечерняя повстречалась с утренней – старое ввивалось в повое. Пусть кажется иногда, что жизнь медлит… Мы знаем, что она не останавливается. И не будем ребячески неблагодарны к нашему прошлому: оно отходит, рождая будущее. Отходит, уча нас жить во имя будущего.
1908
Хлеб жизни*
1901
IЗнаю, меня упрекнут в легком, поверхностном отношении к вопросу громадной важности. Но ведь я не берусь ничего решать; я только выскажу свои, может быть, отрывочные мысли, с осторожностью касаясь предмета, который, конечно, требует серьезного и специального изучения. Пусть же простят мне люди, отдавшие себя жизни, запятые тем, как напитать своих братьев хлебом телесным, удрученные мыслью о всеобщем равенстве, количестве рабочих часов и т. д. Они не сочтут себя моими единомышленниками; а между тем, мне кажется, что они правы, если, ни в чем не изменяя своих мыслей, еще прибавят к ним нечто, логически необходимое.
Те же, кто считаются моими единомышленниками, – упрекнут меня в другом: они скажут, что я повторяю старые, известные мысли, сделавшиеся общими местами. Потому что я буду говорить о хлебе для тела и хлебе для духа, о их равноправности, равнонеобходимости в каждый данный момент для каждого человека, о их фактической жизни. А для этого уже есть готовые, часто повторяемые слова и фразы: «Надо соединить жизнь и религию! Надо освятить жизнь! Надо религию сделать жизненной! Надо все любить!»
Отличные слова. И как будто даже ясные. Как будто даже и рассуждать дальше нечего, а прямо приступать к действию, к воплощению слов: начать освящать жизнь, начать любить все и т. д.
А между тем никаких начинаний мы не видим; никаких воплощений нет. Мысль, в истинность которой мы верим, не может сделаться для нас слишком известной, старой – до своего воплощения; вернее – предположить, что она молода, что мы ее не знаем. И действительно, бывают слова ужасно милые и хорошие, но с притворной ясностью. Они опасны, они гипнотизируют, особенно, когда их часто повторяют: давно веришь, что им веришь, и даже того не понимаешь, что их не понимаешь. Это – догадки, пусть верные, – но все-таки догадки. Для того же, чтобы слова и догадки сделались мыслью, и для понимания мысли, – нужна возможность последовательных представлений. То есть если это – ступень, то чтобы и лестница существовала, а иначе это будет лишь перекладина где-то вверху, в воздухе, виселица или… насест. Боже меня сохрани, сравнить действительно глубокое сочетание слов: «Надо соединять религию и жизнь» – с такими перекладинами; ведь об этих-то словах я и буду говорить; а думаю только, что не лишнее нам посмотреть, каковы нижние ступени лестницы, к ним ведущей, понять, что мы, повторяя хорошие слова, – не знаем, в сущности, ни какую религию подразумеваем, ни какую жизнь, ни как их соединять, ни того даже, почему это «надо». Мы все хотим что-нибудь сделать; но, не зная, что делаешь, можно делать, а сделать ничего нельзя.
И я иду навстречу суждениям и осуждениям моих «единомышленников», говорю о первых, самых наземных, ступенях, хотя, может быть, и придется мне говорить о вещах известных, о словах, уже произнесенных. О, эти старые слова, милые – и самые страшные – притворно-ясные! «Надо любить всех»… «все»… «надо начать любить»… Любить! Вот, кажется, самое старое, известное, понятное слово; а какой человек, если он искренен перед собою, скажет: я понимаю, что оно значит? Но не отвлеченными, пока неразрешимыми, вопросами я буду заниматься. Я хочу говорить о человеческой природе, об ее здоровых потребностях, о моменте нашего теперешнего сознания и о том, как сделать, чтобы нам жить было лучше. Словом, о том, что должно быть, – на основании того, что есть.