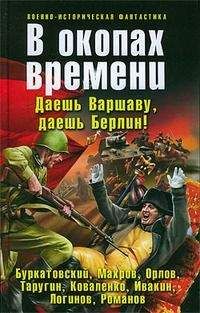Иван Бунин - Том 5. Рассказы 1917-1930
И тотчас я увидел Ялту, ее кладбищенски белеющие среди кипарисов дачи, набережную и зеленоватое море в бухте. Но тут стало уже совсем страшно. Что случилось с Ялтой? Смеркается, темнеет, но почему-то нигде ни одного огня, на набережной ни одного прохожего, всюду опять тишина, молчание… Я сел в пустой и почти темной зале ресторана и стал ждать лакея. Но никто не шел, — все было пусто и удивительно тихо. В глубине залы совсем почернело, а за большим оконным стеклом, возле которого я сел, поднимался ветер, дымились низкие тучи и то и дело пушечными выстрелами бухали в набережную и высоко взвивались в воздух длинными пенистыми хвостами волны… Все это было так странно и страшно, что я сделал усилие воли и вскочил с постели: оказалось, что я заснул, не раздевшись, не потушив свечки, которая почти догорела, темным дрожащим светом озаряя мой номер, и что уже второй час ночи. И я вскочил, ужаснувшись: что же я теперь буду делать? Выспался крепко, а ночи и конца не видно, и за окнами шумит крупный ливень, и я совершенно один во всем мире, где не спит теперь только Давылка! Я поспешно кинулся к Давыдке, в его погребок на Виноградной. Ночь была так непроглядна и дождь лил в ее черноте так бурно, что погребок казался единственным живым местом не только во всем Поти, — теперь я был в Поти, — но и на всем кавказском побережье, даже, больше — во всем мире. Но пока я добежал до него по каким-то узким, грязным и глухим переулкам, Давыдка уже вышел закрывать ставни на своем убогом окошке, собрался тушить свет и запирать двери.
— Но послушай, сказал я ему, чувствуя страх уже смертельный, — если ты запрешь и потушишь, что же мне тогда делать? Куда деваться? Ведь сюда зимой даже пароходы не заходят!
Однако Давыдка только языком пощелкал и неумолимо, с тем спокойным идиотизмом, на который способен лишь кавказец, помотал своей черной стриженой башкой.
— На молу гулять будешь, — сказал он. — Там всю ночь главный маяк гореть будет…
И вот я на каком-то страшном обрыве, горбатом и скалистом, где можно держаться, только прижавшись к необыкновенно высокой и круглой белой башне и упершись ногами в скалы. Вверху, в дымном от дождя и медленно вращающемся свете, с яростным визгом и криком кружатся и дерутся, как чайки, несметные траурные пингвины. Внизу — тьма, смола, пропасть, где гудит, ревет, тяжко ходит что-то безмерное, бугристое, клубящееся, как какой-то допотопный спрут, резко пахнущее устричной свежестью и порой взвивающееся целыми водопадами брызг и пены… А вверху пингвины, пингвины!
1929
Благосклонное участие
В Москве, — ну, скажем, на Молчановке, — живет «бывшая артистка императорских театров». Одинока, очень немолода, широкоскула, жилиста. Дает уроки пения. И вот что происходит с ней каждый год в декабре.
Однажды в воскресенье, — положим, в очень морозное, солнечное утро, — раздается в ее передней звонок.
— Аннушка! Звонят! — испуганно кричит она из спальни кухарке.
Кухарка бежит отворять — и даже отступает: так блестящи, нарядны гости — две барышни в мехах и белых перчатках и франт-студент, их сопровождающий, насквозь промерзший в своей легкой шинельке и тонких ботинках.
Гости долго ждут в холодной гостиной, янтарно озаренной сквозь морозные узоры окон, затем слышат быстрые шаги хозяйки и поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнованна, — знает, в чем дело, — густо напудрила лицо, надушила крупные, костлявые руки…
— Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать, — с очаровательной улыбкой и самой светской непринужденностью говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение.
— Это вы нас простите за беспокойство, — с отменной почтительностью перебивает ее студент, кланяясь и целуя ее руку. — Являемся к вам с усердной и покорнейшей просьбой. Комитет по устройству традиционного литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных воспитанников пятой московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников.
— Господа, если можно, увольте! — очаровательно начинает она. — Дело в том…
Но барышни нападают на нее так дружно, горячо и лестно, что она не успевает сделать даже этой слабой попытки отказаться, уклониться…
После того проходит целых три недели.
И целых три недели Москва работает, торгует, веселится, но, среди всех своих разнообразных дел, интересов и развлечений, втайне живет только одним — ожиданием знаменательного вечера двадцать седьмого декабря. Великое множество афиш всех цветов и размеров пестрит на всех ее улицах и перекрестках: «На дне», «Синяя птица», «Три сестры», Шаляпин в «Русалке», Собинов в «Снегурочке», Шор, Крейн и Эрлих, опера Зимина, вечер Игоря Северянина… Но теперь всякому бьет в глаза только та маленькая афиша, на которой крупно напечатаны имя, отчество и фамилия благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников пятой московской гимназии. А сама участница безвыходно сидит в это время дома и работает не покладая рук, дабы не обмануть ожиданий Москвы, — без конца выбирает, что петь, с утра до вечера пробует голос, разучивает то то, то другое… Дни идут теперь необыкновенно быстро, и эта быстрота уже приводит ее в ужас: и оглянуться не успеешь, как настанет это страшное двадцать седьмое декабря!
Она прекратила давать уроки, никого не принимает и сама не выходит из дому, боясь схватить бронхит, насморк. С чем именно выступать? Публика и не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытнейшего артиста! Какое нужно проявить тут чутье, сколько вкуса, такта, опыта! После долгих и мучительных сомнений, колебаний дело, однако, кончается тем, что она останавливается на своем старом, неизменном репертуаре, — снова проходит три вещи: одну французскую, нежную и грустную, чарующую, как колыбельная песня, где, впрочем, скрыта огромная страсть, сила и боль любящей женской души, безумно жаждущей счастья и жертвенно от этого счастья отрекающейся; другую — полную блеска колоратуры и русской удали; и затем — свою коронную: «Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц», которой, как всегда, можно блеснуть особенно, дать се «с огоньком», игриво, молодо и оборвать на таком отчаянно-высоком и ликующем звуке, чтобы весь зал дрогнул от рукоплесканий. Кроме того, она готовит двенадцать вещей на «бис»… Дни мелькают, мелькают, и в душе у нее уже растет такое чувство, точно близится час ее казни. Однако она работает, работает. И вот настает наконец этот последний роковой день!
Утром двадцать седьмого декабря все силы ее доведены до предельного напряжения. Утром еще одна репетиция, но уже последняя, генеральная. Она поет уже как бы на эстраде: полным голосом, со всей выразительностью художественности, проходит с аккомпаниатором всю свою программу — и чувствует: работа не пропала даром! Но кто все-таки знает, что ждет ее вечером? Триумф или гибель? Лицо ее пылает, руки как лед… После репетиции она идет в свою спальню, раздевается и ложится в постель. Аннушка приносит ей нечто совершенно необычное — зернистой икры, холодного цыпленка и портвейну: так, в день выступления, завтракают все большие артисты. Покушав, она велит задернуть шторы, уйти и хранить в доме полнейшую тишину, а сама закрывает глаза и, в темноте, без единого движения, лежит, стараясь ни о чем не думать, ничем не волноваться, час, другой, третий — вплоть до шести часов вечера. В шесть вскакивает: резкий звонок в передней — парикмахер!
С бьющимся сердцем, с пылающими ушами и скулами, накапывает она себе ледяной рукой целых сорок капель эфирно-валерьяновой микстуры и, в халатике, с распущенными волосами, как дева, которую пришли убирать, готовить на заклание, садится перед зеркалом. Парикмахер входит, предварительно согревши руки над плитой в кухне, и говорит ободряюще:
— Чудная погода! Изрядный морозец, но чудно!
Он работает изысканно и медленно, чувствуя и себя участником предстоящего события, вполне понимая и разделяя ее артистическое волнение, будучи и сам натурой артистической. Он своими небрежно-легкими разговорами, шутками и вообще всей своей опытностью в таких делах, равно и твердой верой в ее предстоящий успех, мало-помалу успокаивает се, возвращает ей силы, мужество, надежды… Но когда он кончает свое дело и, осмотрев его со всех сторон, убеждается, что лучше уже ничего нельзя сделать из этой великолепной завивки и прически, уходит, а часы в столовой медленно бьют семь, у нее опять начинает замирать сердце: в восемь с половиной за ней явятся!
Затем бьют восемь, а она все еще не готова. Она опять пила капли, — на этот раз гофманские, — она надевает свое лучшее белье, румянится, пудрится… В восемь же с половиной раздается новый звонок, который поражает ее как громом: приехали! Аннушка тяжело бежит в переднюю, от волнения, — она тоже сама не своя, — не может сразу отворить дверь…