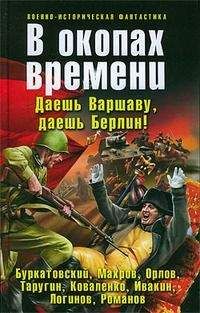Иван Бунин - Том 5. Рассказы 1917-1930
Огонь в лампе пожелтел, в зале светлело, туман за окнами стал голубой, прозрачный. Вновь наступающий день сулил живым только привычную сладость земных дел и забот. Дня него, для того, кто еще позавчера сидел вот за этим столом, а теперь лежал и ждал черничку, это был последний, самый последний день на земле. Могут потом проходить века, тысячелетия — все равно: его, бывшего хозяина этого дома, уже никогда не будет. Нынче, даже сейчас, как только все проснутся, его навеки, до скончания времен, положат в то, ни на что в мире не похожее, всему миру чуждое и враждебное, что всю ночь тряслось рядом с черничкой в тарантасе, покачиваясь и постукивая в тумане и мраке по осенней промерзлой дороге. Но черничка не думала об этом, — с радостью отогревалась, с наслаждением пила и ела, с удовольствием соображала, что сейчас надо приказать внести гроб в дом, позвать работников и заставить их сделать все, что полагается, не как попало, а под своим наблюдением.
IIУтро наступило ясное, тихое. Часам к девяти все нужное было сделано. Теперь всем оставалось только ждать следующего утра. И вот он течет, длится, этот последний, самый последний день.
С позапрошлой ночи усадьба вдруг стала доступна для всякого. Смерть широко распахнула двери пораженного ею и лишившегося своей обычной сокровенности человеческого гнезда. И вчера весь день шли и шли в усадьбу все те, что почему-то желали взглянуть на покойника, — всякие проезжие и прохожие, калеки и нищие, мужики и бабы (не только свои, но и чужие, заречные). Идут они и нынче. Без спросу, без стесненья подходят они к парадному крыльцу, возле которого стоймя стоит и так и бьет в глаза своими страшными очертаниями и своей высотой черная с белым крестом крышка, заглядывают внутрь настежь растворенного дома, в пролет его больших горниц, входят, идут и доходят до той, самой последней, которая превратилась теперь в некое подобие часовни: там пугливо и любопытно толпится и смотрит народ, певуче и немолчно звучит горестный и покорный голос — «ибо ты возвращаешь человека в тление… ибо ты говоришь: возвратитесь, сыны человеческие… ибо перед очами твоими тысяча лет как день один», — там, среди белого дня, при солнце, которое косо заглядывает в окно, выходящее в сад, оранжевым прозрачным пламенем горят толстые свечи, тонко синеет литургически-пахучий дым ладана, еще не рассеявшийся после панихиды, а весь угол занят огромным смертным одром: составленными столами и пышным в своей мрачной и великолепной новизне, до половины покрытым парчовой ризой гробом, возглавие которого поражает чудовищно и безобразно распухшим фиолетовым ликом в крупных и сквозных серых усах, круто поднятой и закаменевшей под выпирающей крахмальной манишкой грудью с высоко и неуклюже лежащими на ней в вылезших манжетах руками, толсто налитыми лиловым воском, и сиреневыми ногтями их.
А вокруг дома, в усадьбе, все полно осенней прелести. В розовом саду квохчут сытые дрозды, стоит блаженная тишина, тепло, кротость, медленно падают легкие листья. На дворе сладко дремлют борзые. На желтом соломенном скате крыши сидят, хохлятся против солнца белоснежные голуби. Над людской избой буднично и спокойно тянется к бледно-голубому небу серый дымок, из ее раскрытых окон приятно пахнет кухонным чадом, слышны голоса и смех праздных работников, своим куреньем и бездельем раздражающих кухарку, обремененную большой и сложной стряпней на завтра.
А на деревне, на гумнах ладно выбивают дробь цепы, мерно и однообразно стучат веялки, ровно гудят молотилки, обещая жизнь долгую, мирную, благоденственную. Все дрожат и наслаждаются каждой минутой чудесной погоды и дружной, спорой работы. С веселым ревом, неустанно и густо засыпая гумно дымящейся соломой, беспощадно сокрушаемой и извергаемой мощным зубастым барабаном, снова гудит новая рязанка Семена: он богат и горяч, — в один миг добыл мастера и поправил ее, и теперь сам подает и думает, что уж нет, шалишь, больше не доверит он дуракам сыновьям машину.
— В мыслях у них, что домы их вечны и что жилища их в род и род… Но человек в чести не будет: он уподобится животным, которые погибают…
Семен знает это лучше всякого… и, весь серый от пыли, от мякины, с кровавыми, воспаленными глазами, с хоботьем в бороде, отклоняя потное, засыпанное и разъедаемое сором лицо от зерна, остро бьющего из-под бешено рвущего и ревущего барабана, только успевает покрикивать:
— Бабы, подавай! Бабы, веселей!
IIIНочью светит молодая туманная луна. Легкая дымка стоит в светлом, мертвом, беззвучном саду. На гумне, не нарушая тишины, а только еще больше давая ее чувствовать, жалобно тявкает совка.
Тишина, пустота и на дворе усадьбы, одиноко краснеет окно в людской избе. Работники за ужином, по случаю покойника, выпили. После ужина они сидели и курили, уже вялые, позевывая.
А там, в доме, в этой страшной горнице, похожей на часовню, стояла благоговейная тишина. Только дрожал, дрожал сонный сумрак в углах, чуть потрескивали, нагорая и оплывая горячим воском, свечи, и то блистал, то темнел под их ярким, но неровным пламенем сизый чудовищный лик с розовой ватой в ноздрях. И однообразно, кротко и укоризненно звучал певучий женский голос:
— И мудрые умирают, равно как невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество другим…
— В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами…
— Но человек в чести не будет; он уподобится животным, которые погибают… Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света…
— Обратись, господи! Научи, как исчислять дни паши, дабы нам приобресть сердце мудрое…
IVНаутро все проснулись с одной мыслью: нынче!
И колокол уже звал, звал.
Утро было особенно прекрасно. Особенно тих и счастлив был розовый сад, медленно выходивший из голубого тумана, таявшего от солнца.
Но колокол звал, звал. И опять шли и шли через двор. Какая-то длинная женщина в серой шали зачем-то вела с собой двух своих девочек, шедших покорно, с любопытно расширенными глазами.
Последним пришел лесник, старый друг покойного по молодости и по охоте.
Он шел через сад, по сухой земле липовой аллеи, где было так тихо, что слышен был каждый падающий листик, и тонко пахло и сладким ароматом листвы, поджаренной солнцем, и свежестью тумана, теперь уже сиявшего в саду лазурным газом. Он шел спокойно. Спокойно прошел и по дому. Но, войдя к покойнику, беззащитно возвышающемуся в гробу во всем смертном позоре среди толпы, наполнявшей комнату, увидав блеск свечей, столь странный среди солнечного света, и безобразное лицо, синевшее в дыму ладана, вдруг побледнел, упал на колени, торопливо закрестился, а потом кинулся к гробу так неистово, стал так страстно впиваться в ледяные и зловонные губы своего господина и друга, что и все вокруг побледнели…
VВ полдень все кончилось.
Мирную жизнь живых уже ничто более не нарушало. Его, этого страшного существа, потерявшего облик и подобие божие, уже не было. И все возвратилось на обычную стезю свою.
За церковью, против алтаря, в блеске спокойного и кроткого солнца, лежал длинный глиняный бугор. Но он уже никому не был ни нужен, ни страшен.
<21 ноября. 1927>
Старый порт
Отель «Бретань» еще пуст, деревня Старый Порт, близ которой странно высится на голом холме это новое многоэтажное здание, живет пока своей простой рыбачьей жизнью.
Стоит та прекрасная погода, когда солнечный зной, припекающий где-нибудь на склоне холма, обращенного к югу, еще мешается с морской свежестью, которой тянет с севера, как только поднимешься повыше и увидишь вокруг другие холмы, а впереди — голубое море. Стоит та радостная пора, когда еще поют жаворонки и всюду цветут цветы, — не только в полях, но даже на окраинах шоссе и на самых кремнистых косогорах, когда вьются мириады мотыльков над этими цветами и над жесткими кустарниками, тоже цветущими мелким цветом в какой-нибудь бесплодной лощине или вдоль заглохшего проселка с высоким крестом из почерневшего камня на перекрестке… Край пустынный, скудный; но теперь на суглинистые поля и холмы его, покрытые молодой, чистой зеленью хлебов, на меловые прибрежные скалы и спокойные лазоревые заливы не наглядишься.
И вот появляются в деревне первые иностранцы: старик-шотландец с женой и дочерью и какой-то одинокий норвежец. Он приехал с тем же поездом и остановился в той же «Бретани», что и шотландцы; однако он не знаком и даже не ищет знакомства с ними, хотя они заметили, что он преследует их с самого Лондона, где он оказался их случайным сожителем тоже по отелю. Человек он вообще необщительный. На вопрос портье, сколько он думает пробыть в отеле, он ответил неопределенно:
— Не знаю. Может быть, сутки, двое суток…