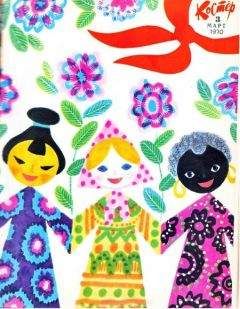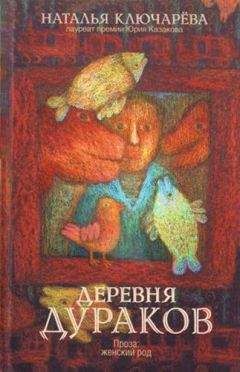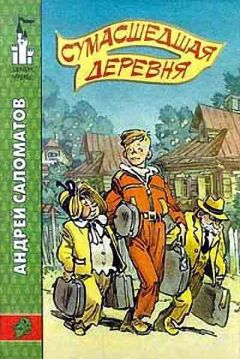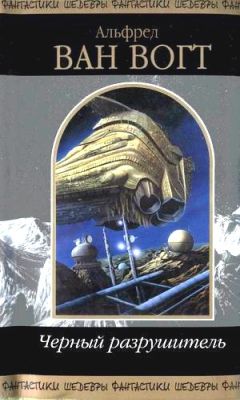Николай Карамзин - Бедная Лиза (сборник)
Ныне поутру Маттисон водил нас к одному ваятелю, который в Италии образовал свой резец по моделям древних художников. Он принял нас учтиво и показывал статуи, весьма искусно выработанные. Живописцу, ваятелю так же нужно воображение, как и поэту: лионский художник имеет его. Он делает теперь заказную статую, которую один молодой супруг готовит в подарок супруге своей, счастливой матери любезного младенца, приближающегося к возрасту отрока. Художник представил прекрасного мальчика, спящего кротким сном невинности под надежным щитом Минервы, изображенной по мысли греческих художников с отменным искусством; внизу виден образ Улиссов. – «Ныне мало работаю, – сказал он, – будучи принужден (здесь он вздохнул) часто вооружаться и ходить на караул, так, как и все прочие граждане.{132} Вид недоделанных статуй приводит меня в уныние.{133} Ах, государи мои! Вы не можете войти в чувства художника, отвлекаемого от работы!» – «Ты истинный художник!» – думал я… – Мы пошли в гошпиталь, огромное здание на берегу Роны. В первой зале, куда нас ввели, стояло около двухсот постель в несколько рядов – о! какое зрелище! Сердце мое трепетало. На одном лице видел я изнеможение всех сил, томную слабость; на другом – яростный приступ смерти, напряженный отпор жизни; на ином – победу первой – жизнь удалялась и вылетала на крылиях вздохов. Здесь-то надобно собирать черты для картин страждущего человечества, прибирая тени к теням. Но какое упражнение! Кто вынесет весь ужас его! – Между смертию и болезнию попадалось в глаза и томно-радостное выздоровление. Бледные младенцы играли цветами – чувство к красотам натуры возобновилось в сердцах их! Старец, подымаясь с одра, подымал глаза на небо или обращал их вокруг себя. «Итак, я еще буду жить!» – говорили радостные глаза его. – «Я еще буду наслаждаться жизнию!» – говорили веселые взоры выздоравливающего мужа и юноши. Какая смесь чувств! Как грудь моя могла вмещать их! – Таким образом переходили мы из залы в залу. В каждой заключается особливый род болезни: в одной лежат чахотные, в другой – изувеченные, в третьей – родильницы, и так далее. Везде удивительная чистота, везде свежий воздух. Присмотр за больными также достоин хвалы всякого друга человечества – и где можно расточать ее с живейшим удовольствием? Милосердие! Сострадание! Святые добродетели! Так называемые жалостливые сестры[162] служат в сем доме плача, и чувство доброго дела есть их награда. Иные стоят на коленях и молятся, другие обхаживают больных, подают им лекарства, пищу. Некоторые из сих добродетельных монахинь весьма молоды; кротость сияет на их лицах. В средине каждой залы стоит олтарь; тут всякий день служат обедню. «Вот комната, – сказал нам провожатый, указывая на дверь, – за которую надобно платить в день двенадцать ливров, с лекарствами, с пищею и услугою; но она пуста». – «А что платят бедные?» – «Десять су в день за все, и двадцать, кто хочет иметь постелю с занавесом». – «Что здесь?» – спросил я, указывая на маленькую часовню в углу двора. «Посмотрите», – ответил вожатый – и четыре гроба, покрытые черным полотном, встретили взор мой. «Всякий день, – говорил он, – умирает здесь несколько человек. Ныне, слава богу! умерло только четверо. К вечеру их вывезут». – Ясужасом отворотился от сего мрачного жилища смерти. – «Теперь поведу вас в кухню». – «Кстати!» – думал я, однако ж пошел за ним. Там, в превеликой зале со многими печами, кипели котлы, лежали целые быки и телята. «И это все в нынешний день будет съедено?» – спросил я. «Тысяча больных, – отвечал он, – ест по крайней мере за пятьсот здоровых. Я не считаю множества лекарей и духовных, которые здесь живут. Вот их столовая». – Мы вошли в большую комнату, загроможденную столами. Час обеда еще не пришел, но некоторые из почтенных духовников наполняли свои желудки мясом и пирогами: они завтракали. – «Всё ли?» – спросил я, выходя из залы. – «Посмотрите сюда. Здесь за железными решетками содержатся безумные». – Один из сих несчастных сидел на галерее за маленьким столиком, на котором стояла чернилица. Бумагу и перо держал он в руке, в глубокой задумчивости облокотясь на столик. – «Это – философ, – сказал с усмешкою провожатый, – бумага и чернилица ему дороже хлеба». – «А что он пишет?» – «Кто знает! Какие-нибудь бредни; но на что лишать его такого безвредного удовольствия?» – «Правда, правда! – сказал я со вздохом. – На что лишать его безвредного удовольствия!» – Мы возвратились к обеду в «Hôtel de Milan».
Лион, марта… 1790
Ныне после обеда был я в огромной картезианской церкви,{134} и провожатый мой с великою важностию рассказал мне о тех чудесах, которые служили поводом к основанию сего строжайшего из монашеских орденов. В 1080 году – неизвестно, в каком городе, – погребали мертвого. В ту самую минуту, когда священник читал последнюю молитву о вечном успокоении души его, умерший поднял голову и закричал страшным голосом: «Небесное правосудие обвиняет меня!» Священник затрепетал, но через несколько минут собрался с духом и хотел дочитать свою молитву. Тут вдруг раздался в церкви сильный шум и треск – гроб затрясся, свечи погасли, и мертвый еще страшнейшим голосом закричал: «Небесное правосудие осуждает меня!» Бруно, кельнский уроженец, будучи свидетелем сего ужасного чуда, тотчас решился оставить свет и вместе с некоторыми из друзей своих (летописи говорят – с шестью) пошел к гренобльскому епископу, упал к ногам его и требовал, чтобы он отвел им какое-нибудь уединенное место, где бы они могли провести жизнь свою в благочестии и в спасительных умозрениях. Епископ за день перед тем, отдыхая после обеда на мягком пуховике, видел во сне, что белое облако спустилось с неба на зеленый луг подле монастырского сада и что на том самом месте выскочили из земли семь звезд. Будучи уверен, что сии семь звезд означали семь пришедших к нему странников, отвел он набожному Бруно и его друзьям упомянутый луг, на котором они через некоторое время построили монастырь – и этот монастырь был первый картезианский. – С великим любопытством расспрашивал я проводника моего о всех подробностях жизни сих затворников. Законы ордена обязывают их не выходить из монастыря, удаляться от сообщения с людьми и наблюдать вечное мертвое молчание. Дни проводят они в чтении, или работают в саду, или сидят, поджав руки, с нетерпением дожидаясь обеда, который составляет главное удовольствие их печального братства. В пять часов после обеда они ложатся спать, в девять встают, часа через два опять ложатся спать, и так далее. Странная жизнь! Учредители сего ордена худо знали нравственность человека, образованную, так сказать, для деятельности, без которой не найдем мы ни спокойствия, ни наслаждения, ни счастия. Уединение приятно тогда, когда оно есть отдых, но беспрестанное уединение есть путь к ничтожеству. Сначала душа наша бунтует против сего заключения, противного ее натуре; чувство недостатка (ибо человек сам по себе есть фрагмент или отрывок: только с подобными ему существами и природою составляет он целое), – чувство недостатка мучит ее; наконец, все благородные побуждения в сердце нашем усыпают, и человек с первой степени земного творения ниспадает во сферу бездушных тварей.
Я стоял среди церкви и смотрел на множество олтарей, на которых блистало серебро и золото. Вечер приближался; все вокруг меня начинало меркнуть, все было тихо – вдруг растворились двери, и печальные братья молчания, в белых платьях, явились глазам моим; потупив в землю взор свой, медленно, друг за другом, шли они к главному жертвеннику и, проходя мимо висящего в церкви колокола, ударяли в него слабою рукою; унылый звон раздавался под мрачными сводами, и мысль о смерти живо представилась душе моей. Я вышел из храма – увидел заходящее солнце, и сердце мое утешилось.
Я люблю остатки древностей; люблю знаки минувших столетий. Вышедши из города, удивлялся я ныне памятникам гордых римлян, развалинам славных их водоводов. Толстая стена с аркадами, в несколько аршин вышиною, складена из маленьких камешков, вдавленных, так сказать, в густую известь, удивительно твердую, так что ее ничем разбить нельзя, и в сей стене проведены были трубы. Римляне хотели жить в памяти потомства и сооружали такие здания, которых не могли разрушать целые веки. В нынешние философские времена не так думают; мы исчисляем дни свои, и предел их есть предел всех наших желаний и намерений; далее не простираем взора, и никто не хочет садить дуба без надежды отдыхать в тени его. Древние покачали бы головою, если бы они теперь воскресли и услышали мудрые наши рассуждения; а мы, мы смеемся над мечтами древних и над странным их славолюбием!
Оттуда пошел я в римские бани, принадлежащие ныне к женскому монастырю. Проходя мимо стены монастырского сада и келий, я чуть было не упал в обморок от мефитического{135} воздуха, который тут спирается. Изрядное уважение к древностям! Вместо того чтобы путь к ним усыпать цветами, почтенные сестры льют туда из окон своих всякую нечистоту! Итак, господа французы, вы не должны бранить азиатских варваров, которыми великолепные храмы древности превращаются в хлевы! – Здание невелико и состоит из коридоров, в которые свет проходил через окна, сделанные вверху на сводах. «Здесь-то нежились роскошные римляне! – думал я. – Здесь-то какая-нибудь римская красавица, окруженная толпою невольниц, мылась ключевым кристаллом в то самое время, когда прекрасный юноша, плененный ее красотою, издалека преселялся своим воображением в сии стены и желал быть счастливым божеством источника, водою которого освежалась прелестная!» – Мне пришла на мысль басня Алфея и Аретузы,{136} а почему, не знаю. Я начал было хвалить нежность мифологических вымыслов, но скоро замолчал, видя, что вожатый мой, садовник монастырский, нимало не хотел слушать меня. – При сем случае вспомнил я также читанное мною в Луциановых разговорах о неге римских богачей. Когда они из бани возвращались домой, то перед ними шли всегда невольники, которые при всяком камешке, лежавшем на дороге, кричали: «Берегись!», чтобы гордый римлянин, всегда смотревший на небо, не споткнулся и не упал! «Что это?» – спросил я у садовника, видя в коридорах бочки, горшки, корзины и прочее. «Здесь мой погреб, – отвечал он, – и мне очень приятно, что все путешественники любопытствуют его видеть». – С удовольствием пробыл я несколько времени в монастырском саду, разговаривая с садовником, который, будучи весьма словоохотен, насказал мне довольно всякой всячины о своих монахинях. «Старые, – говорит он, – бранчивы, грубы и скучны; сидят в своих кельях и говорят – о политике! А молодые печальны, любят гулять в темных аллеях, смотреть на месяц и – вздыхать из глубины сердца».