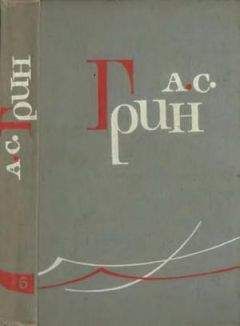Александр Грин - Том 6. Дорога никуда. Рассказы.
Он вернулся в кабинет и увидел свою жену. Она, сохраняя в лице спасительное насмешливое выражение, свертывала арестантскую одежду Эдвея.
— Оставь это здесь, Эми, — сказал Гаррисон. — Как ты узнала?
— Но… я видела в окно, как он ушел.
— Меня всегда удивляло, что женщины всегда все узнают, — сказал Гаррисон, очень недовольный собой. Наконец он решил, что пора улыбнуться. — Ну, он меня поддел! Это произошло врасплох. Я не мог быть меньше его, но я надеюсь, что он не явится. До половины шестого утра завтра. Как он обещал.
— Он явится, — сказала Эми, засовывая сверток за шкап. — Можешь быть в этом уверен.
— Что ты говоришь?!
— Но ты и сам отлично это знаешь.
— Я?
— Ты и я, — мы оба это знаем.
— Эми, он не придет.
— Зачем ты говоришь против себя?
Помолчав, Гаррисон позвонил в канцелярию:
— Латрап? № 332, который спас Джесси, разбит. Этот день он проведет в постели, в моей квартире. Что? Да, я рад, что вы понимаете. Поместите его в больничный список, утром переведем в лазарет. Что? Да пусть отдохнет. Более ничего.
IVВесь день Гаррисон думал о происшедшем и заснул поздно, одетый, у себя в кабинете. Когда рассвело, он проснулся, положил на стол часы и стал ходить, взглядывая на циферблат. Чем ближе стрелка подвигалась к половине шестого, тем быстрее менялись его желания. Сложным, непривычным для него путем он наконец пришел к заключению, что желать обмана — невеликодушно, и приготовился услышать звонок.
Когда он прозвучал — и это было идеально точно, как раз на половине шестого, — Гаррисон от этой драматической точности испытал большее удовольствие, чем при мысли, что не надо теперь придумывать для округа историю несуществующего побега. Он пошел к выходу и открыл дверь. В сумерках рассвета стоял перед ним Эдвей, с слегка вольно надетой шляпой. От него пахло вином; он был сдержан и утомлен.
— Молчите, — сказал Гаррисон, заметив в его лице искреннее движение. — Я не хочу говорить более обо всем этом. Ступайте, переоденьтесь и отправляйтесь в лазарет к дежурному. Вот записка.
Раскаиваясь в своей мрачности, он прибавил:
— Благодарю вас.
Снова стесняясь и избегая смотреть в глаза, они прошли тихо, как воры или дети, в кабинет Гаррисона, где Эдвей принял свой прежний вид. Затем Гаррисон вывел его другим ходом в дверь тюрьмы, запер дверь и облегченно вздохнул. Его кошмар кончился, а трещина осталась и расцвела.
Через день после этой истории, рано утром, помощник Гаррисона Латрап быстро вошел в кабинет начальника, протянув письмо.
— Вот все, что осталось от № 332, — сказал он. — Эдвей бежал ночью, распилив решетку. Он оставил под подушкой это письмо, которое адресовано вам.
Гаррисон закаменел и прочел:
“Я видел сон, что я на свободе, что шторм, опрокинувший деревья в саду, загнал в бухту. Покета яхту моего старого приятеля. Приснилось мне, что я встретился с ним, рассказал ему свою горькую, но поправимую весть и дал ему честное слово, что буду на палубе его судна не позднее трех часов этой ночи. И я должен был сдержать обещание”.
— Тонкой стальной пилой, — сказал Латрап.
Гаррисон стоял неподвижно. В нем возникло несколько одновременных бессмысленных движений, но ни одно не родилось. Он был связан извне и внутри.
— Дайте знать в город, по округу, — сказал Гаррисон.
— Немедленно? — спросил, обгрызывая ноготь, Латрап.
— Немедленно! Что вы хотите сказать?
— Ваше распоряжение…
— Ну?
— Ясно оно или нет?
— Никто не знает, что ясно, а что неясно! — ответил с сердцем Гаррисон, выходя и оставляя Латрапа в психологическом затруднении. Здесь он увидел Джесси и рассердился.
— Ты довольна? Твой спаситель удрал.
— Куда? — осведомилась Джесси, подбегая к нему.
— Как я могу знать, куда?
— Но ты сам сказал… Ты начал первый.
— Я думаю, что первая начала ты, — ответил Гаррисон. — Впрочем, извини меня, я устал.
Враги
Я не знаю более уродливого явления, как оценка по “видимости”. К числу главных несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник; мы видим помидор-солнце, метелки-деревья, хлебцы вместо холмов; короче говоря, — изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо: расположение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не уподобится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома, из чьей челюсти попал он на профессорский стол. Египетские и ассирийские фрески, обладая условной правдой изображений, тем не менее, — разбей мы о них голову, — не заставят нас увидеть подлинную процессию тех времен, — мы смутно догадываемся, грезим, но не созерцаем ее абсолютной, бывшей. Читатель вправе, разумеется, возразить, что требование такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков, или хотя бы скорбь об ее отсутствии — претензия достаточно фантастическая, и однако есть область, где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувствам громаде, заслоняющей истинную его духовную сущность весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности: падений, самоубийств, самообольщений, мании величия и вообще самооценок столь ложных, что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более отношение наше к другим, в лучшем случае, является смешением впечатлений: впечатления, производимого действиями, словами и мыслями, и впечатления от качеств воображаемых, навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошибка, и самое отвратительное лицо самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было, разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня — механического суждения по “видимости”. Обладай природа человека чудесной способностью показать единственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо, — мы были бы свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз, — истинных откровений, способных поколебать мир.
Лет десять назад я остановился в гостинице “Монумент”, намереваясь провести ночь в ожидании поезда. Я сидел один у камина за газетой и кофе после ужина; был снежный, глухой вечер; вьюга, перебивая тягу, ежеминутно выкидывала в зал клубы дыма.
За окнами послышались скрип саней, топот, щелканье бича, и за распахнувшейся дверью разверзлась тьма, пестревшая исчезающими снежинками; в зал вошла засыпанная снегом небольшая группа путешественников. Пока они отряхивались, распоряжались и усаживались за стол, я пристально рассматривал единственную женщину этой компании: молодую женщину лет двадцати трех. Она, казалось, была в глубокой рассеянности. Ничто из ее движений не было направлено к естественным в данном положении целям: осмотреться, вытереть мокрое от снега лицо, снять шубу, шапку; не выказывая даже признаков оживления, присущего человеку, попадающему из снежной бури в свет и тепло жилья, она села, как неживая, на ближайший стул, то опуская удивленные, редкой красоты глаза, то устремляя их в пространство, с выражением детского недоумения и печали. Внезапно блаженная улыбка озарила ее лицо — улыбка потрясающей радости, и я, как от толчка, оглянулся, напрасно ища причин столь резкого перехода дамы от задумчивости к восторгу.
Ее спутники, — двое мужчин среднего возраста, — вполголоса беседовали с хозяином, по-видимому, насчет ужина. Когда хозяин отошел, я, подозвав его, тихо спросил:
— Вы знаете эту даму?
Хозяин, пожав плечами, приложил палец ко лбу.
— Нет, я знаю только, что ее везут в лечебницу умалишенных Эспризгуса. Мне сказал это ее брат, вон тот, что снимает с нее калоши. Он просил дать ей удобную, тихую комнату.
Я еще раз пристально осмотрел незнакомку; ничего безумного не было в ее лице и глазах; все, что я мог отметить, это — пораженность, придавленность, некая безропотная, замкнутая грусть, происходившая, быть может, от сознания своего положения. Временами загадочная, чудесная улыбка меняла на мгновение ее лицо, уступая место прежнему выражению. Она ела мало и медленно, изредка роняя неслышные мне слова; все время пребывания внизу она была окружена самым предупредительным и нежным вниманием со стороны своих спутников.
Пробило двенадцать, когда ее отвели наверх. Брат скоро вернулся и, сев у камина, извлек сигару. Я представился, он назвал себя. Помедлив, сколько того требовало приличие, я осторожно привел разговор к интересующему меня вопросу — болезни молодой женщины.