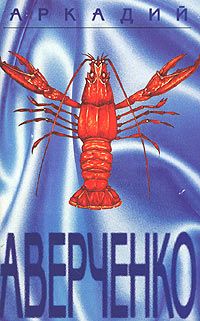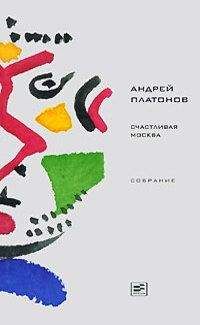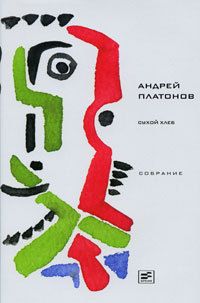Аркадий Аверченко - Том 2. Круги по воде
— Нет! Не надо. Я не хочу лишать вас последнего. Не судьба нам, значит, встречаться. Прощайте, бедный, дорогой дядюшка.
— Куда же ты? Посиди еще.
— Да на чем тут, черт возьми, сидеть, — досадливо вскричал я. — Когда даже стульев нет.
— А ты… на подоконнике… — робко предложил дядя. — Или я тебе газетку на полу постелю, посидим еще, поболтаем о том о сем.
— Благодарю вас!! — бешено вскричал я. — От вас пышет гостеприимством! Усядемся мы на рваных газетах, займемся шитьем пальмерсточника из старых рыбьих костей и краденых «коверчиков», а потом, подкрепив силы парой жареных крыс, разойдемся веселые и довольные друг другом. Нет-с, дядюшка! Я к такой жизни не привык-с!
— Конечно, — с обидой в голосе прошептал дядя. — Где нам! Вы привыкли на стульях сидеть, чаи с колбасами распивать, зубными щеточками жизнь свою украшать… Где нам…
Я почувствовал, что обидел старика.
— Ну чего там, дядя, бросьте. Не стоит. Только вот что: объясните мне одну дьявольскую загадку.
Дядя побледнел и съежился.
— Что такое?
— Почему у вас медная дощечка прибита? Почему квартира ваша на втором этаже? Что у вас в следующих комнатах?
— О милый! Это целая история… Квартира эта принадлежит моему другу, торговцу стеклом и фаянсовой посудой. Однажды дела его испортились… ему грозила продажа с аукциона товаров, полное разорение… Тогда он ночью свез самый ценный товар в эту квартиру, сложил до поправления дел, а мне разрешил из милости жить в первых двух комнатах. В остальные я и не захожу.
— Гм… Ну, прощайте, дядя… Свидимся ли, Бог весть.
— Куда же ты?
— Я думаю, мне пора! Кстати, который теперь может быть час?
* * *Машинальным движением старик засунул руку за пазуху своей отвратительной хламиды, вынул массивные золотые часы и сказал:
— Шесть.
— Дядюшка! У вас золотые часы!!
С юношеской неосторожностью я всплеснул руками — и бриллиант сверкнул на моем пальце.
Хитрый старик заметил это и, сунув за пазуху часы, с усмешкой сказал:
— Убей меня, если я поверю, что это тысячное кольцо одолжил тебе тот же приятель!
Я потыкал пальцем в грудь старика и многозначительно сказал:
— Часы. Золотые.
— Золотые? Ха-ха, — визгливым, фальшивым смешком раскатился дядя. — Нового золота, брат! Шесть с полтиной — в лучшие времена были куплены. Их теперь и за рубль не продашь.
— Э, черррт!.. — вне себя зарычал я. — Вы все еще ломаетесь?.. Так докажу же я вам, что юность порывистее, откровеннее и честнее старости! Вот… и вот! И вот! И вот!!
Я снял кольцо, вынул золотой портсигар, часы, бумажник, в котором было около, сотни рублей, тонкий батистовый платок — и все это лихорадочно расшвырял по подоконнику.
— Вот вам колбаса! Вот булки! Вот вам моя нищета и злосчастье! Перехитрил ты меня, старая лисица! А дома еще есть фрак, два сюртука, бриллиантовая булавка и запонки.
Мы обернулись друг к другу и долго пронзительно смотрели один на другого.
— Ага… — сказал, лукаво хихикнув, старикашка. — Вот это другое дело.
Он развязал веревку на животе, стянул свой халатик и с отвращением отбросил его в угол.
— Долго пришлось мне рыться на чердаке, пока подвернулась под руку эта подходящая дрянь.
Под халатом у него был черный суконный жилет и элегантный бархатный пиджак.
— Адольф! — заорал он во все горло. — Вели Ильюшке подавать обед!! Ты не откажешься, надеюсь, пообедать со мной?
— Крысами? — насмешливо прищурился я.
— Но ведь и не колбасой, — возразил дядя. — У меня повар не из последних.
Он взял меня под руку, потащил в столовую, но на пути остановился и с силой хлопнул меня по плечу.
— А ведь получишь ты после меня наследство, каналья! Чувствую я это.
— А то как же, — хладнокровно улыбнулся я. — Конечно получу. Ведь я ваш настоящий, неподдельный племянник.
— Выдержки у тебя не хватает… — упрекнул он.
— Я ж еще молодой!
Дядька визгливо захохотал.
Молния
Если сказать правду, то рудничный поселок «Исаевский» считался первым среди других поселков — по числу и разнообразию развлечений.
Жаловаться было нечего: каждая неделя приносила что-нибудь новое. То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова сбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника…
А однажды рудничный врач, в пьяном виде, отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало. Этой ногой досужие, скучающие конторщики кормились целую неделю, потому что, хотя здоровая нога и была зарыта в больничном саду, но родственники безногого пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай. Доктор раскричался, заявил, что понимает в медицине не хуже любого человека, и только после долгих споров, когда родственники стали энергично наступать на него с ногой в руках — он сдался и уплатил десять рублей, не считая докторского осеннего пальто, подаренного безногому рабочему за беспокойство.
Немало развлекала рудничную молодежь и история с неизвестным прохожим, который, шатаясь в зимнюю ночь около поселка, влез погреться на коксовую печь старой системы и прогорел. Объясняли так: когда он ложился, печь была еле-еле теплая, а потом огонь разгорелся, пробился сквозь угольную кору и прожег бок спящему.
Видом своим изжаренный прохожий напоминал громадного поросенка, кожа на нем полопалась, волосы обгорели, и, так как он из-за каких-то формальностей целую неделю ждал погребения — конторщики, стосковавшиеся по свежему, новому человеку, гурьбой шли в сарай, поднимали простыню и рассматривали покойника.
Но все это были мелочи по сравнению с тем событием, которое оставило самый яркий след в жизни поселка… Событие это было — кинематограф и стереоскопы.
Однажды, в осеннее утро, похожее, как две капли воды, на другие утра, в контору приехал худой черный человек с цыганским лицом и белыми зубами, сверкнул этими зубами, сверкнул белками глаз и потребовал, чтобы его проводили к главному инженеру…
Сначала все предположили, что это — лесной поставщик, и не обратили на него никакого внимания, но это оказался не поставщик!
Инженер после краткой беседы с приезжим вышел в контору и сказал:
— Вот, господа, месье Кибабчич предлагает у нас устроить временный кинематограф. Я думаю дать ему разрешение, конечно, только в том случае, если это не будет неблагоприятно отражаться на общем ходе занятий вверенного мне поселкового персонала!..
Инженер повернулся и ушел, а контора загудела, оживилась, и Кибабчич сразу оказался в кругу двадцати молодых людей с испитыми от работы, пьянства и скуки лицами.
Все впились в него глазами и стояли молча с полминуты.
Самый развязный из конторщиков Масалакин протянул ему руку и сказал:
— Позвольте познакомиться.
Кибабчич очаровал всех своим ловким, непринужденным ответом. Он сказал:
— Очень рад.
— Позвольте познакомиться, — протянул руку табельщик Уважаев.
И конторщик Петухин протянул тоже руку и сказал:
— Позвольте познакомиться.
И всем говорил Кибабчич, этот чудесный, загадочный человек из другого неведомого края:
— Очень рад. Очень рад.
— Ну, — сказал старик Луховидов, — посмотрим, посмотрим ваш кинематограф.
— Не оставьте меня вашим благосклонным вниманием, — расшаркался Кибабчич.
— Мы будем ходить каждый день! — в порыве беспредельной радости вскричал Петухин.
Над посёлком «Исаевским» загоралась новая заря.
2. ПремьераВ большом помещения, носившем название «ожидальня», потому что зимой в ней сотни рабочих ожидали расчета, кипела работа. Плотники натягивали на раму полотно, устраивали скамьи для публики и загородку для рабочих.
Конторщики то и дело выскакивали из конторы и прибегали смотреть: как идет работа и успевают ли закончить все к вечеру воскресенья, когда была назначена премьера.
Уже в субботу с утра в конторе никто не занимался. Все бродили от одного стола к другому и с напускным видом равнодушия вели беседы.
— Симпатичный он человек, этот Кибабчич. Такой простой. Вчера даже обедал у штейгера Анисимова.
— Ну?.. Все-таки, что ни говорите, затеять такое дело нужна большая сметка! Ведь это, как театр!
— А его сестра на мандолине играть будет, — сказал пронырливый Масалакин.
— Что ты! Артистка?
— Значит, артистка, если играет на мандолине!
— И ты с ней знаком?
— Ну, не знаком еще. Но могу познакомиться… через Анисимова.
Все пожали плечами, но на лицах читалась самая некрасивая, незамаскированная зависть.
Наступило воскресенье.
Хотя начало сеанса было назначено на восемь часов, но рабочие пришли в четыре, конторщики — в шесть с половиной, а бухгалтер и штейгер, как истые аристократы, пресыщенные жизнью и удовольствиями, — в семь часов.