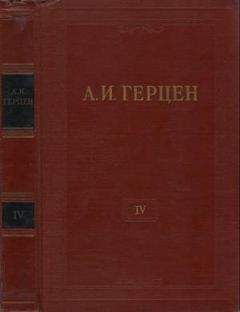Александр Герцен - Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник
Апрель месяц.
3. Пастор Reuter в Гессен-Дармштадте был взят под стражу за политические мнения и при допросе пытаем ужаснейшими средствами: ему набивали кольцо цепи на кость руки, секли его etc. Приведенный в отчаяние и бешенство, старик хотел перерезать себе горло стеклом, и, как разумеется, не мог, однако его нашли мертвым. Доктора нашли, что смерть причинена не разрезом стекла, а другими острыми орудиями (которых в тюрьме не было). Вот плод инквизиционного процесса и прекрасный материал к истории современных германских правительств. Судья, пьяница и делатель фальшивых документов, осылан крестами etc.
Разные анекдоты о Петре I. Странное сочетание гениальности с натурой тигра. Страшен процесс, которым страна могла дойти до необходимости появления такого врача, до возможности его и до того, что она могла вынести такое царствование. Возмущенные стрельцы говорили, что Петр не сын царя Алексея Михайловича, а Ягужинского. Однажды, середь оргии, Петр стал приставать к Ягужинскому, отец ли он его. Тот, удивленный, отпирался, Петр велел его поднять на дыбу и допрашивать; тогда взбешенный Ягужинский отвечал: «Чорт тебя знает, чей ты сын, у твоей матери были разом три любовника, и я в их числе». В Пскове он такие неистовства наделал в церкви, что его народ чуть не убил. Он страшно переказнил священника и бросившихся на него. Их распяли, и он сам перестрелял их потом. Марат, Робеспьер и Фукье Тенвиль вместе. Понять, оправдать, отдать не токмо справедливость, но склониться пред грозными явлениями Конвента и Петра – долг. Более, в самих гнусностях их не должно терять явного признака величия. Но не всех актеров 93 года можно любить, также и Петра.
5. Итак, указ о путешествиях не пуф, в нем есть какое-то величие безобразия и цинизма, это язык плантатора с неграми; тени уважения к подлым рабам, которым писан фирман, нет; власть не унизилась, чтоб сыскать какой-нибудь резон, хотя ложный, но благовидный, она попирает святейшие права, потому что презирает; она нагла нашей низостью. Усовершаться в художествах и ремеслах позволено, но не в науках! Страшное время: силы истощаются на бесплодную борьбу, жизнь утекает, и ни капли отрадной, ни близкой надежды – ничего.
10. В Тамбовской губ. было возмущение крестьян одной волости. Характер дела (по рассказам) довольно замечателен. Крестьяне жаловались, что с них берут лишние поборы. Министр государственных имуществ велел им дать расчет, что они должны платить, но с них, несмотря на то, стали требовать гораздо более. Тогда они втиши наделали кистеней, пик и отказались от платежа. Явилась земская полиция и начальство п<алаты> государственных имуществ. Они их прогнали. Привели роту солдат, солдаты не хотели стрелять, – чуть ли не первый случай после Петра. Разумеется, наконец их усмирили и, вероятно, часть перебита, а десятого после кнута отправят в каторжную работу. Все мужики этой волости молокане; перед ними шла девушка, певшая псалмы. И так из раскольничьих скитов вырываются такие звуки среди общей немоты крестьян.
14. Замечательная статья в 3 последних №№ «Московских ведомостей» об освобождении негров. Приложение прямое, и в официальной газете.
Читал Гегелеву философию природы (Encyclopedie, II Т.). Везде гигант, многое едва набросано, очеркнуто, но ширина и объем колоссален. Какой огромный шаг в освобождении от абстрактных сил, в введении в свои рамы категории величины, которой подавляли все земное, и какой перевес качеству, конкреции; он освобождает в полном развитии человека от его материального определения, от его теллурической[353] жизни, адекватностию его формы понятия (чем беднее его развитие, тем более он зависим от природы). Дух вечен, материя – всегдашняя форма его инобытия. Лишь только форма способна, лишь только она может выразить дух, – она и выражает его. Здесь там, везде, где условия органического возникновения собрались – одействотворились. Как началась индивидуализация земной планеты, солнечной системы, что было прежде etc., etc. – на все это очень трудно отвечать, главное – всякий раз попадешь в ту ли, в другую ли сторону in die schlechte Unendlichkeit[354]. Инобытие, чем полнее одна внешность, чем далее от адекватности с понятием, тем упрямее оно в своей материальности, тем естественнее оно удерживается от разрешения в мысль и, схваченное в односторонности, представляет именно die schlechte Unendlichkeit вещества. Рассудком не выйдешь из этих логических кругов, так как рассудком никогда не поймешь жизнь органическую, ибо жизнь сама в себе, an sich, спекулятивна. Рассудочная истина формально до оконченности ясна, но плоска и истинного примирения в ней нет. Спекулятивная, повидимому смутна, но она глубока.
19. Конечно, Гегель в отношении естествоведения дал более огромную раму, нежели выполнил, но coup de grâce[355] естественным наукам в их настоящем положении окончательно нанесен. Признают ли ученые это или нет – все равно, тупое Vornehmtuerei des Ignorierens[356] ничего не значит. Гегель ясно развил требование естественной науки и ясно показал всю жалкую путаницу физики и химии, – не отрицая, разумеется, частных заслуг. Им сделан первый опыт понять жизнь природы в ее диалектическом развитии от вещества, самоопределяющегося в планетном отношении, до индивидуализации в известном теле, до субъективности, не вводя никакой агенции[357], кроме логического движения понятия. Шеллинг предупредил его, но Шеллинг не удовлетворил наукообразности. Сам Гегель не может (в чем его упрекает Тренделенбург) держаться беспрестанно в изреженной среде абстракций, и действительность жизненно, со всем огнем, врывается представлениями, фантазиями, поэтическими образами (за что Гегель заслуживает большую похвалу), но он верен и неумолимо строг в общем развитии; Шеллинг провидел требования, но слишком легкой дорогой удовлетворился ими.
24. 22 окончился курс Грановского. Этот курс – событие, – событие, имеющее большое значение. Сверх внутреннего своего достоинства, он имеет внешнюю важность тем, что теперь начнутся публичные курсы; публика узнала новое, сильное, волнующее наслаждение всенародной, энергической речи. Доценты увидели, какою аудиторией может Москва окружить их. Симпатия к Грановскому далеко превосходит все, что можно себе представить; публика была удивлена, поражена благородством, откровенностью и любовью; Грановский прямо касался самых волнующих душу вопросов и нигде не явился трибуном, демагогом, а везде светлым и чистым представителем всего гуманного. На последней лекции аудитория была битком набита. Когда он в заключение начал говорить о славянском мире, какой-то трепет пробежал по аудитории, слезы были на глазах, и лица у всех облагородились. Наконец, он встал и начал благодарить слушателей – просто, светлыми, прекрасными словами, слезы были у него <на> глазах, щеки горели, он дрожал. «Благодарю тех, – так кончил он, – которые с симпатией слушали меня и разделяли добросовестность тона ученых убеждений, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с открытым челом, прямо и благородно высказывали мне свою противуположность. Еще раз благодарю вас». Он молчал и кланялся. Безумный, буйный восторг увлек аудиторию, – крики, рукоплескания, шум, слезы, какой-то торжественный беспорядок, несколько шапок было брошено на воздух. Дамы бросились к доценту, жали его руку, я вышел из аудитории в лихорадке. Слава доценту и слава аудитории! Литераторы, товарищи, друзья приготовили обед; влияние последних слов было так сильно и так живо, что все противуположные воззрения примирились в дружеском торжестве и самые противуположные натуры искали друг друга, чтоб заявить свое различие и уважение. Весело, шумно и, наконец, пьяно окончился этот день. Его отметят многие, он многим вспомянется как прекрасный праздник любви и симпатии.
27. Спор университета и церкви развивается и далек от конца. Современное состояние истинно удручает неуловимостью своей, видом всесовершеннейшего беспорядка. В былое время вопрос современной жизни разрешался односторонне, но в силу его жали<?> Непримиримость элементов резко кидается теперь в глаза и не дозволяет трезво мыслящему удовлетвориться частным решением. Давно забытые элементы жпзни, вызванные с дна могил невыносимой тоскою ожидания, в буйном брожении смешались с новым и младенчествующим, осадок и пена равно увлеклись брожением. Это последнее явление, пред новым пришествием истины и мертвые подали свой голос и заявили свои права, чтоб не быть забытыми при воскресении. Но как тяжело с этими мертвецами, и тяжело потому, что, не будучи слепыми, мы не можем отрицать в них остаток жизненности, а в противуположном зачаток смерти. Именно это-то и страшно и давит. Человек 93 года знал знамя, к которому стать и которое вполне соответствовало ему. А тут, например, вам равно не хочется ни с доктринерами защищать полицейскими мерами университет, ни с иезуитами, усилившимися тем, что полиция их толкает. Так и наши ультраславянофилы: чувствуешь все делящее от них и чувствуешь симпатию, и понимаешь, как они пришли к своему воззрению и как противуположное воззрение при неосторожности переходит в петербургский взгляд, в то время как западно-либеральные головы считают национализм подпорою правительства. Что тут делать? Ждать ли, пока вырастет уже родившийся мессия, о котором проповедуют Товианский и Вронский, или броситься à corps perdu[358] в односторонность, или широко гуманным взглядом обнять все эти односторонностии понять их приготовленными буквами святого глагола, который раздастся? Или сложить руки и лечь спать?