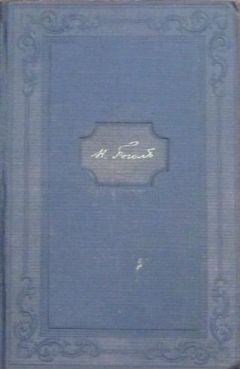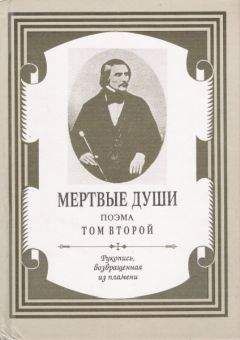Николай Гоголь - Мертвые души
Приезду гостей он обрадовался, как бог весть чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.
– Константин Федорович! Платон Михайлович! – вскрикнул он. – Отцы родные! вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! Я уж, право, думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы: думает – попрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Константин Федорович! Вижу – сам всему виной! Что делать? свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде: сапоги, как видите, с дырами. Да чем вас потчевать, скажите?
– Пожалуйста, без околичностей. Мы к вам приехали за делом, – сказал Костанжогло. – Вот вам покупщик, Павел Иванович Чичиков.
– Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку.
Чичиков дал ему обе.
– Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания… Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали?
– Обедали, обедали, – сказал Костанжогло, желая отделаться. – Не будем и мешкать и пойдем теперь же.
– В таком случае пойдем.
Хлобуев взял в руки картуз. Гости надели на головы картузы, и все отправились пешком осматривать деревню.
– Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое, – говорил Хлобуев. – Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, – до того дожил. Свиньей себя веду, просто свиньей!
Он, глубоко вздохнув и как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича и жестковато его сердце, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.
– Трудно, Платон Михалыч, трудно! – говорил Хлобуев Платонову. – Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бессапожье! Трын-трава бы это было все, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей, – сгрустнется, поневоле сгрустнется…
Платонову стало жалко.
– Ну, а если вы продадите деревню, это вас поправит? – спросил он.
– Какое поправит! – сказал Хлобуев, махнувши рукой. – Все пойдет на уплату необходимейших долгов, а затем для себя не останется и тысячи.
– Так что ж вы будете делать?
– А бог знает, – говорил Хлобуев, пожимая плечами.
Платонов удивился.
– Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?
– Что ж предпринять?
– Будто нет уже средств?
– Никаких.
– Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь место.
– Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне могут дать выгодное место? Жалованье дадут ничтожное, а ведь у меня жена, пятеро детей.
– Ну, частную какую-нибудь должность. Пойдите в управляющие.
– Да кто ж мне поверит имение! я промотал свое.
– Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность.
– Нет, Платон Михайлович, – сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку, – не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, и ревматизм в плече. Куды мне! Что разорять казну! И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни бог, чтобы из-за меня, из-за доставки мне жалованья прибавлены были подати на бедное сословие: и без того ему трудно при этом множестве сосущих. Нет, Платон Михайлович, бог с ним.
«Вот положение! – думал Платонов. – Это хуже моей спячки».
Тем временем Костанжогло и Чичиков, идя позади их на порядочном расстоянии, так между собою говорили:
– Вон запустил как все! – говорил Костанжогло, указывая пальцем. – Довел мужика до какой бедности! Когда случился падеж, так уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь: и мужик уже изленился, и загулял, и стал пьяница.
– Так, стало быть, теперь не совсем выгодно и покупать эдакое имение? – спросил Чичиков.
Тут Костанжогло взглянул на него так, как бы хотел ему сказать: «Ты что за невежа! С азбуки, что ли, нужно с тобой начинать?»
– Невыгодно! да через три года я буду получать двадцать тысяч годового дохода с этого именья. Вот оно как невыгодно! В пятнадцати верстах. Безделица! А земля-то какова? разглядите землю! Всё поемные места. Да я засею льну, да тысяч на пять одного льну отпущу; репой засею – на репе выручу тысячи четыре. А вон смотрите – по косогору рожь поднялась; ведь это все падаль. Он хлеба не сеял – я это знаю. Да этому именью полтораста тысяч, а не сорок.
Чичиков стал опасаться, чтобы Хлобуев не услышал, и потому отстал еще подальше.
– Вон сколько земли оставил впусте! – говорил, начиная сердиться, Костанжогло. – Хоть бы повестил вперед, так набрели бы охотники. Ну, уж если нечем пахать, так копай под огород. Огородом бы взял. Мужика заставил пробыть четыре года без труда. Безделица! Да ведь этим одним ты уже его развратил и навеки погубил. Уж он успел привыкнуть к лохмотью и бродяжничеству! Это стало уже жизнью его. – И, сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело…
– Я не могу здесь больше оставаться: мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустенье! Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит Божий дар!
И, сказавши это, Костанжогло простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.
– Помилуйте, Константин Федорович, – говорил удивленный хозяин, – только что приехали – и назад!
– Не могу. Мне крайняя надобность быть дома, – сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролетках.
Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.
– Не выдержал Константин Федорович, – сказал он. – Чувствую, что не весело такому хозяину, каков он, глядеть на эдакое беспутное управленье. Верите ли, что не могу, не могу, Павел Иванович… что почти вовсе не сеял хлеба в этом году! Как честный человек. Семян не было, не говоря уже о том, что нечем пахать. Ваш братец, Платон Михайлыч, говорят, необыкновенный хозяин; о Константине Федоровиче что уж говорить – это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: «Ну, зачем столько ума дается в одну голову? ну, что бы хоть каплю его в мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумел дом свой держать! Ничего не умею, ничего не могу». Ах, Павел Иванович, <возьмите> в свое распоряжение! Жаль больше всего мне мужичков бедных. Чувствую, что не умел быть…[97] что прикажете делать, не могу быть взыскательным и строгим. Да и как мог приучить их к порядку, когда сам беспорядочен! Я бы их отпустил сейчас же на волю, да как-то устроен русский человек, как-то не может без понукателя… Так и задремлет, так и заплеснет.
– Ведь это, точно, странно, – сказал Платонов, – отчего это у нас так, что если не смотришь во все глаза за простым человеком, сделается и пьяницей и негодяем?
– От недостатка просвещения, – заметил Чичиков.
– Ну, бог весть отчего. Вот мы и просветились, а ведь как живем? Я и в университете был, и слушал лекции по всем частям, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще как бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности да комфорты, больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я бестолково учился? Только нет: ведь так и другие товарищи. Может быть, два-три человека извлекли себе настоящую пользу, да и то оттого, может, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей-богу! Ведь учиться приходили только затем, чтобы аплодировать профессорам, раздавать им награды, а не самим от них получать. Так из просвещенья-то мы все-таки выберем то, что погаже; наружность его схватим, а его самого <не> возьмем. Нет, Павел Иванович, не умеем мы жить отчего-то другого, а отчего, ей-богу, я не знаю.
– Причины должны быть, – сказал Чичиков.
Вздохнул глубоко бедный Хлобуев и сказал так:
– Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек – какой-то пропащий человек. Нет силы воли, нет отваги на постоянство. Хочешь все сделать – и ничего не можешь. Все думаешь – с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни примешься за все как следует, с завтрашнего дни сядешь на диету, – ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами и язык не ворочается, как сова, сидишь, глядя на всех, – право и эдак все.
– Нужно в запасе держать благоразумие, – сказал Чичиков, – ежеминутно совещаться с благоразумием, вести с ним дружескую беседу.
– Да что! – сказал Хлобуев. – Право, мне кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньгу, – не верю я и тому! На старости и его черт попутает – спустит потом всё вдруг! И все у нас так: и благородные, и мужики, и просвещенные, и непросвещенные. Вон какой был умный мужик: из ничего нажил сто тысяч, а как нажил сто тысяч, пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского, и выкупался в шампанском. Но вот мы, кажется, и все обсмотрели. Больше ничего нет. Хотите разве взглянуть на мельницу? Впрочем, в ней нет колеса, да и строенье никуда не годится.