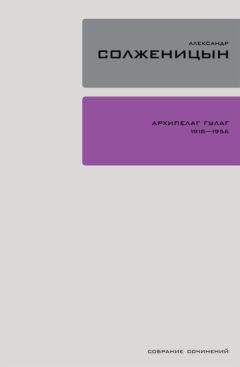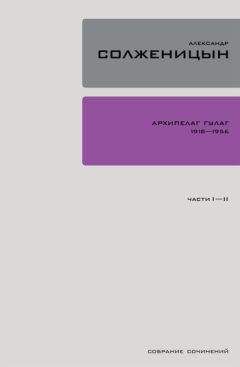Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. Книга 3
И все они попадали под око того же оперсектора, все разъединялись и костенели. С годами они всё более станут чуждаться друг друга, чтоб НКВД не заподозрило у них «организации» и не стало бы брать по новой. (А именно эта участь и ждёт их многих.) Так в черте государственной ссылки они углубятся во вторую добровольную ссылку – в одиночество. (А Сталину именно это и надо.)
Ослаблены были ссыльные и отчуждённостью от них местного населения: местных преследовали за какую-либо близость к ссыльным, провинившихся самих ссылали в другие места, а молодёжь исключали из комсомола.
Обезсиленные равнодушием страны, советские ссыльные потеряли и волю к побегам. У ссыльных царского времени побеги были весёлым спортом: пять побегов Сталина, шесть побегов Ногина, – грозила им за то не пуля, не каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющее, но тяжелеющее ГПУ со средины 20-х годов наложило на ссыльных партийную круговую поруку: все сопартийцы отвечают за своего бежавшего. И уже так не хватало воздуха, и уже так был прижимист гнёт, что социалисты, недавно гордые и неукротимые, приняли эту поруку! Они теперь сами, своим партийным решением запрещали себе бежать!
Да и куда бежать? К кому бежать?..
Тёртые ловкачи теоретических обоснований быстро пристроили: бежать – не время, нужно ждать. И вообще бороться не время, тоже нужно ждать. В начале 30-х годов Н. Я. Мандельштам отмечает у чердынских ссыльных социалистов полный отказ от сопротивления. Даже – ощущение неизбежной гибели. И единственную практическую надежду: когда будут новый срок добавлять, то хоть бы без нового ареста, дали бы расписаться тут же, на месте – и тогда хоть не разорится скромно налаженный быт. И единственную моральную задачу: сохранить перед гибелью человеческое достоинство.
Нам, после каторжных лагерей, где мы из раздавленных единиц внезапно стали соединяться, – грустно поминать этот процесс всеобщего расчленения. Но в наши десятилетия идёт общественная жизнь к расширению и полноте (вдох), а тогда она шла к угнетению и сжатию (выдох).
Так негоже нашей эпохе судить эпоху ту.
А ещё у ссылки были многие градации, что тоже разъединяло и ослабляло ссыльных. Были разные сроки обмена удостоверений личности (некоторым – ежемесячно, и это с изнурительными процедурами). Дорожа не попасть в категорию худшую, должен был каждый блюсти правила.
До начала 30-х годов сохранялась и самая смягчённая форма: не ссылка, а минус. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, а давали выбрать город за минусом скольких-то. Но, однажды выбрав, к месту этому он прикреплялся на тот же трёхлетний срок. Минусник не ходил на отметки в ГПУ, но и выезжать не имел права. В годы безработицы биржа труда не давала минусникам работы; если ж он умудрялся получить её, – на администрацию давили: уволить.
Минус был булавкой: им прикалывалось вредное насекомое и так ждало покорно, пока придёт ему черёд арестоваться по-настоящему.
А ещё же была вера в этот передовой строй, который не может, не будет нуждаться в ссылке! Вера в амнистию, особенно к блистательной 10-й годовщине Октября!..
И амнистия пришла, амнистия – ударила. Четверть срока (из трёх лет – 9 месяцев) стали сбрасывать ссыльным, и то не всем. Но так как раскладывался Большой Пасьянс и за тремя годами ссылки дальше шли три года политизолятора и потом снова три года ссылки – это ускорение на 9 месяцев нисколько не украшало жизни.
А там приходила пора и следующего суда. Анархист Дмитрий Венедиктов к концу трёхлетней тобольской ссылки (1937) был взят по категоричному точному обвинению: «распространение слухов о займах (какие же могут быть слухи о займах, наступающих кажегод с неизбежностью майского расцвета?..) и недовольство советской властью» (ведь ссыльный должен быть доволен своей участью). И что ж дали за такие гнусные преступления? Расстрел в 72 часа, и не подлежит обжалованию! (Его оставшаяся дочь Галина уже мелькнула на страницах этой книги.)
Такова была ссылка первых лет завоёванной свободы, и таков путь полного освобождения от неё.
Ссылка была – предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели – вызова туда. (Были умные люди – из бывших, да и простых крестьян, ещё в 20-е годы понявшие всё предлежание. И, окончив первую трёхлетнюю ссылку, они на всякий случай там же, например в Архангельске, оставались. Иногда это помогало больше не попасть под гребешок.)
Вот как для нас обернулась мирная шушенская ссылка, да и туруханская с какао.
Вот чем была у нас догружена овидиева тоска.
Глава 2
Мужичья чума
Незамеченные миллионы. – Как возник этот план? – Удар по крестьянству в 1918. – Начало истребления в 1929. – Постановления января – февраля 1930. – «Кулаки» и «подкулачники», загуляли клички. – «Активисты». Зло не вычёсывается гребнем. – Сплошное выселение сёл. – Кулак-мальчишка Шура Дмитриев. – Мотя-«Эдисончик». – Мельник Лактюнькин. – Кузнец Трифон Твардовский. – Не должно быть домов кирпичных. – Вгон в колхоз. – Великий Перелом хребта.
Картины разорения и раскулачивания. – Чумный воздух ещё годы над деревней. – Тимофей Овчинников, ветеринар и колбасник. – Колбаса на службе ВКП(б). – Зимние обозы с грудными детьми. – Чтобы семя мужицкое погибло. – Картины этапов. – Этап пришёл на место. – Архангельские церкви – пересылки раскулаченных. – Умирающим на улицах не помогать! – Ссылка в никуда. – Выбор мест, где жить нельзя. – Посёлки, обращённые в лагеря. – Посёлки вымершие. – Васюганская трагедия.
Жизнь в спецпосёлках. – Переброска поселенцев в лагеря, разрыв с семьёй. – Постановление о возврате раскулаченным прав. – Предложенья идти на фронт. – Ответ Николая Хлебунова. – Устоянье посёлков, забытых начальством. – Повторное раскулачивание. – Яруевские староверы на Подкаменной Тунгуске. – И другие староверы, расстрел в енисейской воде. – Закрепощенье по браку и детей. – Прикреплённые к шахтам навечно. – Пережившие 20-летье Чумы – те же советские. – На Сталина нет обид! – И он победил государственно.
Тут пойдёт о малом, в этой главе. О пятнадцати миллионах душ. О пятнадцати миллионах жизней.
Конечно, не образованных. Не умевших играть на скрипке. Не узнавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой.
Во всей Первой Мировой войне мы потеряли убитыми и пропавшими без вести меньше двух миллионов. Во всей Второй – двадцать миллионов (это – по Хрущёву, а по Сталину – только семь. Недоглядел Иосиф капиталу?). Так сколько же од! Сколько обелисков, вечных огней! романов и поэм! – да четверть века вся советская литература этой кровушкой только и напоена.
А о той молчаливой предательской Чуме, сглодавшей нам 15 миллионов мужиков, – и это по самому малому расчёту и только кончая 1932 годом![91] – да не подряд, а избранных, а становой хребет русского народа, – о той Чуме нет книг. А о 6 миллионах выморенных вослед искусственным большевицким голодом – о том молчит и родина наша, и сопредельная Европа. На изобильной Полтавщине в деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощицы у станций нельзя было вступить – дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. «Безбелковый отёк» записывали тем, кто добирался умереть на пороге больницы. На Кубани было едва ли не жутче. И в Белоруссии во многих местах собирали мертвецов приезжие команды, своим – уже некому было хоронить.
И трубы не будят нас встрепенуться. И на перекрёстках просёлочных дорог, где визжали обозы обречённых, не брошено даже камешков трёх. И лучшие наши гуманисты, так отзывчивые к сегодняшним несправедливостям, в те годы только кивали одобрительно: всё правильно! так им и надо!
И так это глухо было сделано, и так начисто соскребено, и так всякий шёпот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам: «не надо, братцы, уж вороха у меня этих рассказов, не убираются», а по ссылке мужичьей нисколько не несут. А кто бы и где бы рассказал нам?..
Да знаю я, что здесь не глава нужна и не книга отдельного человека. А я и главу одну собрать обстоятельно не умею.
И всё ж начинаю. Я ставлю её как знак, как мету, как эти камешки первые, – чтоб только место обозначить, где будет когда-нибудь же восставлен новый Храм Христа Спасителя.
* * *С чего это всё началось? С догмы ли, что крестьянство есть «мелкая буржуазия»? (А кто у них – не мелкая буржуазия? По их замечательно чёткой схеме, кроме фабричных рабочих, да и то исключая квалифицированных, и кроме тузов-предпринимателей, все остальные, весь собственно народ, и крестьяне, и служащие, и артисты, и лётчики, и профессора, и студенты, и врачи – как раз и есть «мелкая буржуазия».) Или с разбойного верховного расчёта: одних ограбить, а других запугать?