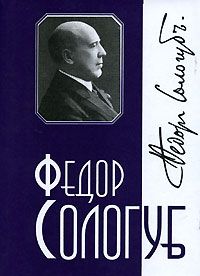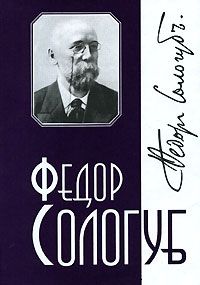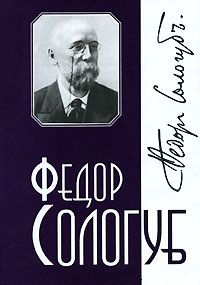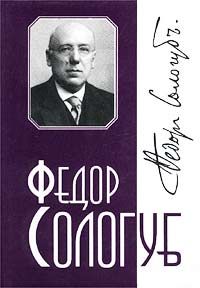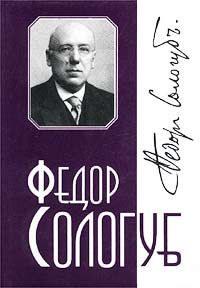Федор Сологуб - Том 8. Стихотворения. Рассказы
Этот «неустанный труд» проникает всю его поэзию, дает ей ее силу и ее своеобразное величие.
В ранних стихах (Книга первая и вторая, 1896 г.) Сологуба захват его поэзии еще ограничен. Это «запах асфальта» в городе, «вожделенный сон», «ряска, покрывшая старый, дремотный пруд», сквозь которую не выплывет нагая русалка, порой «майские песни, нежные звуки!». Мир, тяготящий поэта, еще закрыт здесь своими обычными покровами, серыми, томительными, и только один «сон», одна «мечта» кажутся избавительными приютами. Может, всего характернее для этого периода творчества Сологуба его стихи:
Приучив себя к мечтаньям,
Неживым очарованьям
Душу слабую отдав,
Жизнью занят я минутно,
Равнодушно и попутно,
Как вдыхают запах трав,
Шелестящих под ногами
В полуночной тишине…
Между этими начальными книгами и «Собранием стихов» 1904 года — расстояние огромно: словно из тонкого побега вырос крепкий ствол дерева. Сологуб нигде не рассказывает, что именно пережил он за эти годы, и оставляет читателям догадываться по таким намекам:
это вражья сила
Сокрушила бубен мой…
В новых стихах Сологуба для поэта со всего в мире сорваны его обличия: он знает, уверенно знает, что скрывается под кажущимся людям солнцем, под призрачностью весен, под условностями любви. Он обо всем говорит с такой убежденностью, как будто бы Некто всеведущий открыл ему все тайны вселенной, посвятил его в последние мистерии мироздания… Да так оно и было: Сологуб разгадал, понял самого себя, а что же есть для человека за пределами его души, его восприятий, соображений и воспоминаний?
И вот начинаются те беспощадные обличения мира, перед которыми первые стихи Сологуба кажутся робкими приступами, слабым исканием слов.
Безнадежностью великой
Беспощадный веет свет…
Нестерпимым дышит жаром
Лютый змей на небесах.
Покоряясь ярым чарам,
Мир дрожит в его лучах…
Что прежде было тихой скорбью — стало буйством духа и страстью:
Ты, буйный ветер, страсть моя!
Ты научаешь безучастью,
Своею бешеною властью
Отвеяв прелесть бытия.
По-прежнему «мечта» кажется единственной утешительницей, но как изменился и ее облик! То, на что лишь робко смели намекнуть первые песни («Ее чертоги — место пыток»), теперь сказалось с крайней силой, засверкало сиянием застывшей молнии:
На лбу ее денница
Сияла голубая…
Хотелось ей неволи,
И грубости лобзаний,
И непомерной боли
Бесстыдных истязаний…
И, стихотворение за стихотворением, стих за стихом, Сологуб в уверенных словах являет перед нами свой отныне навек существующий мир. Он говорит о «земном ненужном строе», «застенке томительных дней», о «неизменной земле», по которой «влачится» ручей, об обставших вокруг, «всегда безмолвных», предметах, и все эти эпитеты, столь простые с первого взгляда, образуют крепкую и неразрывную систему мысли, какую-то ловчью сеть, в которой неизбежно запутывается читатель. Сологуб умеет «ловить человеков», нельзя безнаказанно читать пристально его стихи: они покоряют.
После «Собрания стихов» следовало несколько маленьких книжек, скорее отдельных «циклов стихотворений», чем самостоятельных книг, открывавших ту или другую сторону миросозерцания поэта. Новым завоевательным этапом была «8-я книга» стихов: «Пламенный круг». По многим причинам эту книгу надо признать самой прекрасной из книг Сологуба. Как то всегда бывает у поэтов, которым уже не надо искать, но лишь выражать найденное и осознанное, — стих Сологуба достигает здесь высшей красоты. Здесь его самые певучие песни, изысканные по построению, превращающиеся порой в нежную музыку (таковы, например, две колыбельных песни, «Степь моя», «Любовью легкою играя» и многие другие). В то же время здесь и самые совершенные его создания, иногда повторяющие уже сказанное им раньше, но с новой силой и с новой страстью.
Смысл книги, кажется, выражается стихами:
Наивно верю временам,
Покорно предаюсь пространствам…
После буйного мятежа предыдущей поры Сологуб, не отказываясь ни от одного из своих утверждений, готов здесь «принять мир» как неизбежно данное, согласен видеть всю его красоту, хотя бы и обманную. Из этого возникают пленительные песни о «прелестях земли» и об «очарованиях жизни». Об этом говорит и вступительное стихотворение, где рассказывается, как некогда первозданного человека, Адама, покинула его небесная подруга, Лилит, и как поселилась с ним земная Ева. Славословиям этой Евы, и всего в мире связанного с ней, и посвящена книга. И сам поэт, не без изумления, спрашивает:
Холодная, жестокая земля!
Но как же ты взрастила сладострастье?
А тем, кто решился бы напомнить Сологубу о дерзаниях его прежних книг, он мог бы ответить своим стихотворением «Ангел благого молчания», который —
…отклонил помышления
От недоступных дорог.
Но эта просветленность «Пламенного круга» — вторичная; она добыта ценой тяжкого омрачения прежних созданий. Поэтому нет в ней ничего легкого, поверхностного: это — просветленность страшной глубины, которую все же пронизывает слишком яркий луч. Может быть, ничто не покажет так отчетливо громадное расстояние, отделяющее последние стихи Сологуба от ранних, как сравнение двух его стихотворений, равно посвященных качелям, из которых одно вошло в первую книгу стихов, другое — в восьмую. В первом стихотворении качели повешены где-то среди «угомонившихся берез», в тени сада, «в истоме тихого заката»:
То в тень, то в свет переносились
Со скрипом зыбкие качели…
Во втором стихотворении качели качает «мохнатою рукой» черт, качает их «в тени косматой ели над шумною рекой»:
Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Доска скрипит и гнется…
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд…
Мир осложнился для Сологуба, его явления углубились, в каждом из них открылся многообразный, символический смысл…
После «Пламенного круга» новые стихи Сологуба развивали те же темы и вполне раскрывали то же его мировоззрение.
Нет сомнения, что Сологуб — поэт крайне субъективный, хотя он далеко не всегда говорит от первого лица. В конце концов, единственная задача его поэзии — раскрытие своеобразного миросозерцания поэта. И рисуя картины природы, и рассказывая свои странные баллады, и повторяя античные мифы, — Сологуб занят лишь собой, своим отношением к миру. Когда, например, Шиллер рассказывал о Кассандре, он заботился прежде всего о том, чтобы как можно вернее воссоздать образ древней пророчицы. Сокровенным смыслом сказания остается у него тот, который был затаен в античном мифе. Сологуб, рассказывая нам о Тезее, о Ариадне, о медном змие, ищет лишь примеров, ярких образов, выражающих его субъективные воззрения на мир и на жизнь. Все стихи Сологуба — только такие примеры, что и делает его поэзию символической, в самом истинном смысле слова.
Только помня это основное назначение поэзии Сологуба, можно верно оценивать его стихи. Все выражения, которыми он пользуется, все его образы имеют целью не столько объективное изображение явлений, событий, чувств, сколько их субъективное истолкование. Надо постоянно иметь в виду особенности Сологуба как индивидуальности, как мыслителя, чтобы вполне понимать его стихи. Только тогда, например, становится ясно, почему у Сологуба дороги всегда «пыльные», «жестокие», «обманчивые», «злые», почему у него солнце — «лютый змей» и «дракон», почему у него чуть ли не все дни оказываются или «туманными», или «нагими, горючими» и т. д. В целом поэзия Сологуба — это строгие гимны во славу Смерти, избавительницы от тяготы жизни, и ее двух заместительниц — Мечты и Сна, при жизни уводящих на берега Лигоя, текущего под лучами звезды Маир. Только изредка эти гимны прерываются негромкими песнями о земле и ее отвлекающих соблазнах.
Эти особенности поэзии Сологуба определяют и ее слабые стороны. Так, например, слишком занятый «конечным» смыслом своих созданий, Сологуб порой пренебрежительно относится к внешним картинам, создаваемым им, и это приводит к бледности и противоречивости образов. В его стихах встречаются эпитеты, которые имеют смысл как иносказание, но которые кажутся нелепыми, если их взять в прямом смысле. Он, например, может серьезно говорить о земле: «неистощим твой дикий холод», словно забывая, что «много было весен». С другой стороны, слишком занятый жаждой выразить свое понимание мира, Сологуб иногда забывает первый долг поэта — говорить образами, картинами и музыкой слов и начинает отвлеченно излагать свою философию. Одно его стихотворение начинается таким утверждением: