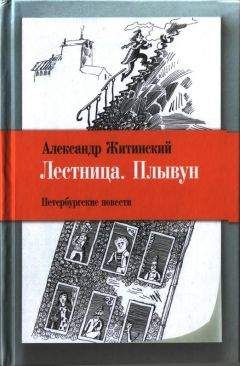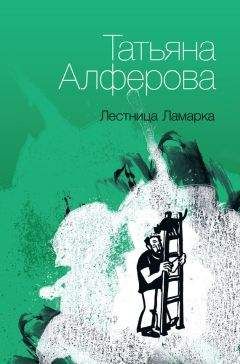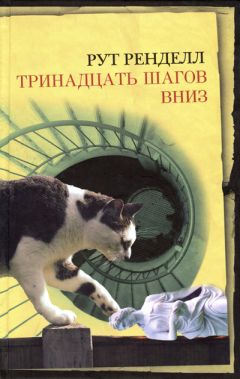Александр Пушкин - Том 6. Художественная проза
— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.
Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».
Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»
— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.
— Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.
Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.
Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что́ происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.
Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.
Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, сто́я правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела…
«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен…» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».
— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.
Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.
Легко можно себе представить, что́ чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения… Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему всё; Пугачев мог проведать истину и другим образом… Тогда что́ станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом…
Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратись ко мне с вопросом:
— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?
— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.
— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?
Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.
— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.
Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.
— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.
— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.
Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой*? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мне забавна.
— Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком?
— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.
— А ты полагаешь идти на Москву?
Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».
— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?
Пугачев горько усмехнулся. «Нет, — отвечал он;— поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».
— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!
— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на́-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?
— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.
Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути… Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.
Глава XII
Сирота
Как у нашей у яблонки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.*
Свадебная песня.Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» — Я отворотился от него и ничего не отвечал.
Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».