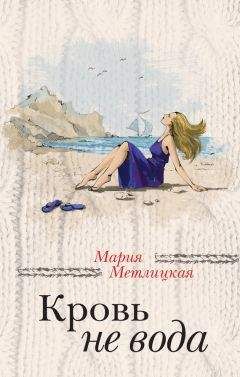Валентин Иванов - Златая цепь времен
Как Вам известно, я не философ, не проповедник, но для себя мне кое-что нужно: для позиции перед самим собой. Так вот, есть такой измеритель времени истории человеков: коэффициент отчуждения. Он же коэффициент соразмерности личности с обществом и т. д. А вы говорите — ванны… Вот Вам для размышлений.
Национализм двойствен. Его нарастание — факт для меня таинственный и многозначительный. Но после того как я с последней книгой сделал горизонтальный разрез эпохи по всему миру (в книгу не все попало) — прикрашивания по сравнению с другими у меня нет: сущее и бывшее познается в сравнении с другими. В частности, коэффициент отчуждения на той Руси был куда ниже, чем в другой Европе и в Азии.
27.II.1968
*
Дорогой и уважаемый Валериан Николаевич[62], вернувшись из отлучки, нашел Ваше письмо о «Руси Великой». Начну с благодарности за общую оценку. Мне повезло с Вами, ибо если и бывает изредка такой ценитель, то он обычно не пишет — такое у нас по самому характеру нашему как-то не водится. Посему права Ваши ничем не ограничены, мои же обязанности велики, ведь Вы обращаетесь к моей совести, и человеческой, и писательской. Вторую я ставлю выше: в личных высказываниях и поступках могу действовать сгоряча и отдавшись власти собственных предрассудков. Но коль дело идет в печать, но тут уж иное… И поверьте, что в дальнейших объяснениях нет моих писательских самолюбия и упрямства.
Начну с Ярославовой «Правды». Еще В. О. Ключевский о ней сказал весьма зло: «Вот хорошо-то было, режь, грабь да плати князю». Василий Осипович — были у нас общие знакомые — любил острословие, суждения его отличались едкостью, построения увлекали блеском. Отсюда популярность его лекций, посещаемых по тогдашней вольности, со временем, «взрослой» и даже светской публикой. Но и он не был безгрешен.
Вне зависимости от его мнений, у нас нет главного — данных о преступности в XI веке. О ней мы можем строить лишь конъюнктуру на основании старых данных. По старым данным, наибольшая преступность падает на столичные губернии из-за Петербурга и Москвы. Впрочем, день на день не приходился и в столицах. Цензор Никитенко в своем дневнике поминает, что когда он в Петербурге отбывал новые в те годы обязанности очередного присяжного заседателя, то был в окружном суде занят лишь однажды — судили лакея, укравшего хозяйское серебро.
В 1900 году все окружные суды империи, рассматривающие квалифицированные нарушения, решили 37 тысяч дел, приблизительно на 120 млн. населения.
Во времена Ярослава народу было меньше раз в двадцать — двадцать пять. Сохранив соотношение, найдем, что могло быть 1400 — 1600 дел. Но простая пропорциональность несправедлива, ибо в губерниях патриархальных, Олонецкой, Новгородской, число осужденных за квалифицированные преступления было куда ниже среднего. А в них самих уезды, где было раньше крепостное право, давали заметно большую преступность, чем уезды, где крестьяне оставались «государственными». Не буду перегружать Вас дальнейшими расчетами, данными и соображениями (знавал места, где преступлений на памяти жителей не бывало). Замечу, что я убедился в факте ничтожности преступности, как явления, на Руси XI века, что проистекало из сложившихся отношений, трудности скрыться, использовать украденное или награбленное. Словом, сам быт, сама малая численность и редкость населения препятствовали развитию преступности.
«Русская Правда», закрепляя обычное право, санкционировала личную месть в форме расправы, осуществляемой самими потерпевшими на месте. Характерна оговорка: «А если передержал (вора, убийцу) на дворе до утра, то веди к князю». Таким образом, ни о какой родовой мести, вендетте, речи не было. Легализовался самосуд в горячке, в аффекте. Но коль сами потерпевшие не убивали преступника, то к чему же было князю казнить смертью того, кого помиловали обиженные? С другой стороны, разве наши суды не оправдывали убийц, признав их действовавшими в состоянии аффекта? Тот, кто однажды вошел в ограбленный дом или увидел тело убитого близкого, и сегодня поймет правоту нашей древней «Правды».
Таковы очень вкратце мои обоснования. Как видите, я полагаюсь не на авторитеты, а на собственные исследования, наблюдения. Итог — преступность в XI веке была незначительна, а отрицательное отношение «Русской Правды» к смертной казни свидетельствует о человечности обычаев.
Законодатели утяжеляют кары под давлением роста преступности — кривая ужесточения наказаний гонится за кривой правонарушений, а мягкость законов свидетельствует о мягкости нравов.
Отклоняясь от темы лишь внешне, замечу, что, следя за общим состоянием наук, нахожу весьма значительным тот факт, что нашего гипотетического предка ищут уже в третичной эре. Иначе говоря, начало начал, то есть появление человека — личности, себя осознающей, способной к абстрактному мышлению, все более отодвигается во времени. Угол подъема по отношению к горизонту делается все острее, а для коротких отрезков времени, порядка тысячелетия, этот подъем становится незаметным. Но для людей XIX века и первой четверти нашего этот подъем мнился крутым, что накладывало на оценки нашими отцами исторического прошлого окраску не всегда осознанного, но всегда искреннего высокомерия, а искренность — сила.
Вместе с тем прошлое можно уподобить инертной беззащитной глыбе. Вырубается кусок, сочтенный характерным, его отделывают, полируют: историк — скульптор. Критика источников необходима, но очень трудна. Морализировать же легко. И требуется критика самих критиков, и каждая школа обороняется, а установившееся мнение кажется незыблемым, так как забыта спорность постулата, легшего в основу.
Судить о поступках исторических лиц легко, мы без труда перечисляем их ошибки. Но забываем, что поступи такой-то тогда-то так, как мы сейчас ему подсказываем, то результаты оказались бы вовсе не теми, какие мы убежденно, но произвольно выводим из подобного нашего вмешательства: ведь мы, при всем желании, при всей нашей эрудиции, не охватываем достаточное количество связей между причинами и следствиями. Вдобавок, ничто нам не гарантирует, что даже из доступного нашему обозрению мы извлечем именно главное, не спутав его с тем, что лишь лучше видно. Вы знаете, как заманчиво прост формальный детерминизм в истории и как проблематично на самом деле хотя бы только наметить казуальность. Обычно считают причиной происшедшее раньше во времени и ограничиваются этим приемом. Я постепенно пришел к ощущению, что «простота» исторического прошлого так же обманчива, как и нынешние прогнозы. Особенно трудно уловить качество явления.
По-моему, романисту не следует выступать с заявлениями — по своей природе роман должен убеждать своей изобразительностью, позиция у автора есть, но действие развязывается по-своему.
…В действиях Ярослава, в делах таких его выдающихся преемников, как Мономах и сын Мономаха Мстислав, заметны стремления к стабилизации, охранительству, к опоре на обычаи «отцов и дедов». Нам, отправляющимся в прошлое критикам, которым известны результаты, хочется упрекнуть в невнимании к наметившимся переменам, в недостатке динамизма, в ограниченности перспективы. На самом деле, уже не Степь, а дела внутренние становились самонужнейшими. Перебирая практику правительств в разные времена, я нахожу одну и ту же доминанту: стремление опереться на установленное или установившееся однажды, желание вопреки быстротекущим для постороннего наблюдателя переменам (для глядящего в прошлое так ощутима стремительность) жестко материализовать формы, усиливать их, крепить, то есть бороться со временем, добиться остановки. Мы ясно видим, как политические деятели не имели гидов в будущее, смешивали прогнозы с планированием и были одинаково бессильны определить своими действиями качества завтрашнего дня. Отсюда являлась необходимость в теории и ее закреплении, потребность в традиции и требование верности традиции — дабы и завтра сохранить начальные качества. Даже в тех случаях, когда старое скашивалось как бы под корень, новые формы очень скоро консервировались, чтобы сохранить себя в однажды принятом виде: путем создания своей теории, своих традиций и верности им. Отсюда склонность поддерживать стабильность силой, незаметно переходящей в насилие, то есть вознесение формы над содержанием, и к подавлению того динамизма, который дал начальный успех.
О князьях: не их руководством, указаниями, мерами происходило перераспределение сил Киевской Руси, распространение ее на север и запад от днепровского пристепья, образование новых центров с их стремлением к самостоятельности от старого. Княжьи усобицы, шумевшие по верхам и так занимавшие летописцев, были не причиной, а следствием этого полнокровного перераспределения, которое к концу XII века привело к созданию более чем десятка в той или иной степени независимых королевств. Вся Русь шла на переломе, была в переломе ко дню появления монголов. Явись они раньше, в правление Мономаха или его сына Мстислава, то военная с ними игра была б, вероятно, сыграна в нашу пользу. То же было б, гадаю, и при более позднем их приходе: есть много оснований полагать, что помянутые королевства создали бы довольно быстро надежную для самообороны федерацию. Федеративность уже наблюдалась в первой половине XII века. На Западе, как Вы знаете, «собирание» происходило с многократно большей кровью и трудом, чем у нас, и наименее напряженные там «рядовые» периоды наполнены эпизодами куда более мрачными, чем самые тягостные для души события времен хотя бы Василия Темного и завершителя собирания Ивана Третьего.