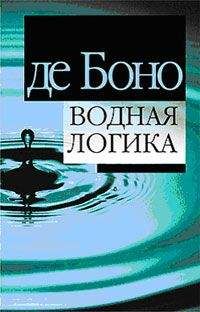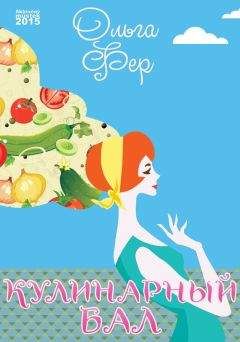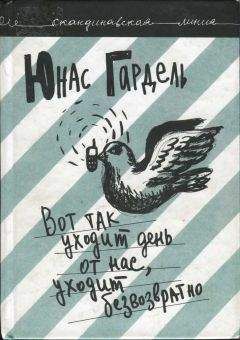Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь
- Сколько же вы этим зарабатываете? - спросил Васильев.
- Примерно тридцать рублей в месяц, - сказал я, - отец получает шестьдесят с лишним рублей пенсии, и нам этого вполне хватает.
Тут Васильев стал доказывать, что тридцати рублей в месяц хватить на жизнь не может, вот ему, Васильеву, не хватает ста пятидесяти рублей. Я сказал, что у меня дома нет зато телевизора.
- У меня старый телевизор! - вскричал Васильев. - Мне вот даже на обед в столовой денег и то не хватает.
- Да нет, прожить можно, если только в семье жить, то и тридцатки хватит, - вдруг вмешал-ся ипподромный конюх. Он и раньше пытался вступить в наш с Васильевым разговор, но в поддержку Васильева, желая, вероятно, тем самым выставить себя с выгодной стороны перед своим следователем, но в таком житейском вопросе вдруг стал на мою сторону.
- Ты, папаша, помалкивай и в чужой разговор не встревай, - сурово сказал ему "опер", и старик замолчал, а Васильев продолжал доказывать, что прожить на тридцать рублей нельзя и что я, видимо, имею еще какие-то другие источники дохода. Я не догадался уличить его тогда в том, что он, в сущности, занимается антисоветской пропагандой, поскольку тридцать рублей это официально установленный советской властью прожиточный минимум в городах, и хочешь не хочешь, мы все должны уметь прожить на тридцать рублей. Вместо этого "идеологического" возражения, я сказал, что могу ему точно подсчитать свои расходы. Разозленный Васильев заметил, что, как он видит, я "шибко грамотный".
- Что же удивительного, - скромно сказал я, я кончил десять классов.
- Тут не в классах дело, вы кой в чем другом шибко грамотный, многозначительно сказал Васильев и предложил написать мне подробно, где, кем и когда я работал, что делаю сейчас и особо упомянуть, что трачу рубль в день.
- В среднем рубль в день, - уточнил я, - иной раз два, а иной ничего, - и сел писать объяснение. Васильев спрятал мое жизнеописание в сейф и, ни слова не говоря, ушел. К моему удивлению, ничего прямо ни об иностранцах, ни о картинах он не спросил. Скорее, это был тревожный симптом. Видимо, от мысли поговорить со мной "по-хорошему" отказались и решили действовать руками милиции, ставя ей определенные и узкие задачи.
Место ушедшего Васильева занял участковый уполномоченный, капитан Киселев. С протоко-льным выражением лица он вновь начал спрашивать меня, где, когда и кем я работал, все это тщательно записывая, после чего предложил мне подписать его запись. Затем он предложил подписать бумажку, где было сказано, что меня ознакомили с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общест-венно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни" и дали мне срок для устройства на работу до 20 марта, после чего я буду привлечен к ответственности. Эту бумажку я подписал, то есть признал, что Указ и предоставленный мне для трудоустройства срок мне известен, но сказал, что из-за болезни отца ни на какую постоянную работу я устраиваться не буду.
- Не будешь, поедешь в Красноярский край, - сказал Киселев, который, впрочем, в отличие от Васильева держался миролюбиво. Тут между нами возник спор из-за трудовой книжки, кото-рый, кажется, начался еще с Васильевым. Я не хотел давать свою трудовую книжку, но Киселев и еще какой-то капитан меня уломали, и я занес ее на следующий день. Отнес я книжку из тех соображений, что все равно, мол, не спасешься, а только еще новые неприятности наживешь, но может быть, было бы лучше им мою трудовую книжку не давать. Они тщательно переписали все, что там было, подшили к "делу" и вернули книжку мне. Таким образом "дело" на меня как на "тунеядца" было "оформлено".
Срок, предоставленный мне милицией, был настолько мал, что ни на какую работу по специа-льности я бы устроиться, конечно, не мог, если бы и захотел. Речь могла идти только о работе дворником, грузчиком, истопником, чернорабочим, то есть о работе, которая не представляла бы для меня никакого интереса, была бы крайне тяжела для моего больного сердца и оставляла мало свободного времени и за которую я мог бы взяться только из страха перед милицией. Сначала я все-таки искал работу, но потом изменил свое мнение и твердо решил на работу не поступать.
Конечно, во всяком случае на первый взгляд, кажется, что было бы осторожнее с моей сторо-ны поступить на работу. Однако даже осторожность должна иметь предел. Нужно отстаивать свое право на независимое существование, рассуждал я, почему я должен идти работать грузчиком или ночным сторожем, если считаю своей работой работу над пьесами и стихами, а также свои истори-ческие и художественные штудии? Лойяльность по отношению к государству не должна перерас-тать в рабскую покорность, думал я, и нужно, не поддаваясь страху, как-то отстаивать свое достоинство. Я тем более укреплялся в этом решении, что неприятные воспоминания о столкно-вении с милицией постепенно тускнели, а меня пока никто не беспокоил. Но это уже житейский комментарий к предыдущей патетике.
Была еще причина, почему мне трудно было устраиваться на работу, причем такая причина, как мне казалось, которую милиция должна принять во внимание. С января 1961 года, со дня смерти матери, я жил вдвоем с отцом, тяжело больным человеком, наполовину парализованным, почти лишенным речи, перенесшим несколько инсультов и инфаркт. Временами ему приходилось лежать совсем без движения, так что я даже кормил его с ложки, хотя большей частью он сам мог согреть себе обед и сам с трудом ходил по квартире, а иногда с моей помощью выходил посидеть на бульваре. Я не хочу сказать, что я безотлучно находился при отце, никуда не выходя из дому, но было совершенно очевидно, что без моего ухода отец прожить не сможет. После всех милицейских визитов ему, естественно, стало еще хуже.
Кроме отца, с начала этого года, мне пришлось еще заботиться о своей тете, родной сестре моей матери. В декабре 1964 года умер ее муж, и она осталась одна. Тоже была совсем больна, перенесла несколько кровоизлияний в мозг и почти ослепла, выходить из дому никуда не могла. Правда, ей помогали родственники мужа, но я заходил почти каждый день, ходил за продуктами и за лекарствами. Так что в этих условиях искать работу, которая вдобавок отняла бы у меня целый день, мне было очень трудно.
И еще одно обстоятельство. Поскольку обвинение в "тунеядстве", как я думал, было только предлогом, а не причиной для судебного преследования, устройство на работу не спасло бы меня, а только заставило бы моих преследователей искать новые юридические уловки для обвинения, и против меня, например, возбудили бы какое-нибудь уголовное дело, что было бы гораздо хуже. Как будет видно дальше, я здесь не совсем ошибался.
Хотя срок предупреждения о трудоустройстве истек 20 марта, меня пока никто не беспокоил. Правда, в начале апреля раза два в мое отсутствие заходил капитан Киселев и спрашивал отца, устроился ли я на работу. Отец отвечал, что нет, и Киселев вздыхал и разводил руками, говоря: что же, мол, он думает делать и на что надеется? Потом он пытался расспрашивать отца, что за иностранцы ко мне ходят. В другой раз он завел с ним разговор, что вот, мол, я не работаю, отцу не помогаю, ухаживаю за ним, вероятно, плохо, и предложил ему написать на меня заявление в милицию. Так что отец попросил его больше не приходить, сказав, что очень устает от его посещений.
Ясно было, что это временное затишье и что невидимая мне бюрократическая машина продолжает работать, пишутся бумаги, отдаются распоряжения и собираются сведения, вращаются гигантские колеса и шестеренки, которые в один прекрасный момент затянут меня без остатка. Может быть, я все же начал бы искать работу, но случилось еще одно тяжелое событие. В середине апреля у тети произошло кровоизлияние в мозг, и через несколько дней она умерла.
Тетя моя, Клавдия Григорьевна Теодорович, урожденная Шаблеева, оказалась последней в старом русском роду Шаблеевых. Фамилия эта происходит от слова шабля, что значит сабля. Мой дед, Григорий Фокич Шаблеев, единственный сын крупного чиновника русской администрации в Польше, в конце прошлого века женился на цыганке, дочери цыгана-конокрада. От этого брака родилось трое детей: в 1895 году сын, Евгений Григорьевич, в 1900 году дочь, Зоя Григорьевна, моя мать, и в 1903 году дочь, Клавдия Григорьевна, после чего дедушка с бабушкой разошлись. В семье дедушки этот брак считался "ужасным", и мама и дядя чуть ли не с рождения воспитыва-лись у дедушкиной замужней сестры, а тетя осталась у бабушки и считалась кем-то вроде Золуш-ки в семье, пока революция не стерла все эти нелепые различия. Дедушка погиб во время граж-данской войны в Сибири, а бабушка умерла в 1942 году в эвакуации в Оренбурге. Хотя мне было тогда уже четыре года, у меня от нее ничего не осталось в памяти, кроме цветных стекол на террасе дома, где она жила перед смертью. Дядю расстреляли в 1937 году как "врага народа", мама умерла в 1961 году от рака мозга, и тетя, последняя из Шаблеевых, пережила ее всего на четыре года.