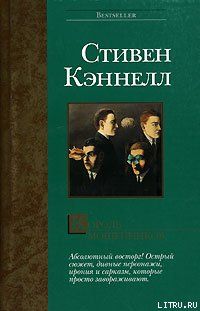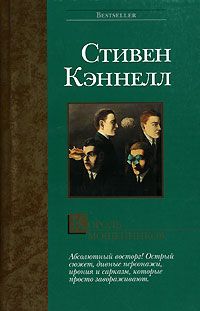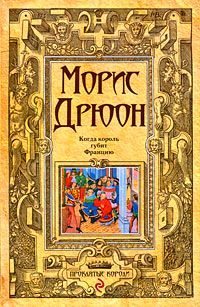Аполлон Григорьев - Человек будущего
Я давно уже не ищу истины, а ищу счастия, в чем бы оно ни было.
Жаль одного только, по поводу чего я и написал это длинное оправдание обмана, что другие не хотят согласиться со мною. Сказать правду – эта женщина начинает меня мучить. Слезы и вечно слезы – о чем, уж этого я просто не понимаю или, лучше сказать, не хочу понимать. Недоставало одного только, чтобы она мучила меня ревностию. Вероятно, уж следует непременно, чтобы любовь была с ревностью: нет повода – что же за дело? Надобно его создать, а то как же можно обойтись без ревности? Но очень любопытно узнать, к кому она меня ревнует?
Разные драматические положения меня, наконец, бесят. Дай бог и без страстей-то прожить, слыхал я часто от одного почтенного человека, а это еще со страстями. Влюбилась, перелюбилась – и господи! прибавлял он всегда, обыкновенно поднимая руки кверху. Ведь есть же наслаждение мучить себя небывалыми призраками!
Вчера я играл в преферанс с ее мужем и еще с одним, кажется, чиновником же – впрочем, бог его ведает, на лбу не написано… Она сидела подле мужа, смотрела ему в карты и указывала, с чего ходить. Я проигрывал по обыкновению… Один раз ему удалось оставить меня без трех в червях. Он так самодовольно открыл в эту минуту свою серебряную табакерку, так весело прищелкнул ее сбоку, что я смотрел на него с истинным наслаждением.
– Каково мне счастие-то везет, Арсений Федорыч, – сказал он, опрокинувшись на спинку кресел и подмигнувши левым глазом на жену.
– Вы правы, счастие с вами, – отвечал я, не давая заметить, что понял его намек. – Но всегда ли?
– А вот посмотрим – всегда ли? – возразил он с самоуверенною улыбкою и взял, как будто не нарочно, руку жены, лежащую на ручке его кресел.
– Сомнительно, – сказал я с особенною расстановкою. – Восемь в червях!
Она отошла быстро.
– Вы смеетесь надо мною, – прошептала она с нервическою дрожью, когда через полчаса я подошел к ее рабочему столику.
– Это что еще?… – и я с величайшим равнодушием закурил сигару над ее лампой и отошел опять к карточному столу.
Удивительно глупая, но и удивительно добрая, в самом деле, натура ее мужа. Он с нею все еще как на другой день свадьбы. И между тем что же делать, когда мне это очень забавно, забавно до того, что из удовольствия послушать его восторги я не щажу даже этой женщины… Когда он, полузажмурясь, начинает мне в сотый раз рассказывать о своем сватовстве – и доходит до самого эффектного места, до того, когда столоначальник, разбранивши его за неподшивку дела, говорил ему, что он хуже медведя и что где он нашел такую дуру, которая бы за него пошла, – и потом с таким наивным и простодушным смехом спрашивает, дура ли у него Ольга Петровна? – и я с ледяным вниманием слушаю этот рассказ… она… Но что мне за дело?… Она лучше, во стократ лучше, когда страдает чем бы то пи было: я забываю тогда, что она чиновница, забываю, что она без ума от повести «Фрегат Надежда»,[16] – я люблю ее в эти минуты. Страдание – апотеоза женщины, хотя, разумеется, есть степень этой апотеозы. Кстати о страдании. Я знал одну женщину, для которой страдание было стихиею. Помню ее, как теперь, высокую и стройную с долгим, болезненным взглядом, с нервическою, по вечною улыбкою на тонких и бледных устах, с странным смехом, как будто ее щекотал кто-нибудь. Я не был влюблен в нее и этому удивляюсь до сих пор, но говорить с нею было для меня потребностию, но я отдал бы много, чтобы говорить с нею опять. Она была осуждена жить в патриархальном семействе, она была осуждена любить своего мужа, потому что он в самом деле был порядочный человек, но за это осуждение наверстывала она таким глубоким, таким самосознательно гордым страданием, что холодному наблюдателю могла бы показаться неправою. И в самом деле, ей, любимой до поклонения всей семьей мужа, ей, верной жене, образцовой матери – стоило бы сказать одно слово, чтобы уничтожить разом все патриархальные обычаи, от которых ее охватывал судорожный трепет, все долгие пытки однообразно-нелепого и добросовестно-однообразного образа жизни, от которого она таяла так заметно, и она никогда не сказала этого слова, и она умерла гордая тем, что не сказала этого слова. Есть натуры, до такой степени нежные, что быть не понятыми один раз в жизни для них страшнее в тысячу раз длинного, томительного страдания… Они до того особны, эти натуры, что им самим странна их особенность, что они сами знают, как все их требования от жизни несогласны с обыкновенным порядком вещей… Они тонки до такой степени, что их раздражают вещи вовсе для других незначительные, и очень хорошо знают это; что им говорить с людьми, которых оскорбить может разве только пощечина, потому что она факт, и факт несомненный?
Не таково, разумеется, страдание Ольги… Эта женщина вовсе не исключение, а скорее общее правило нашего быта, жертва нашего нелепого воспитания, жертва идеализма азбучных правил и мечтательности. Ей воображалось когда-то, что цель жизни любовь, что брак следствие любви. С 16-ти лет она мечтала об идеале, и, к несчастию, этот идеал явился к ней в особе живописца-гения, с общею принадлежностию наших доморощенных гениев, т. е. с проклятием людям и с. разгулом жизни, который, как известно, составляет необходимость всякой широкой души. Измеривши, по возможности, всю неизмеримую пустоту этого идеала, убедившись, что идеалы такого рода не годны даже на то, чтобы быть мужьями, – она ударилась в крайность. Ей нужен был человек, а, к несчастию, попались на пути жизни так называемый гений, а потом животное, чрезвычайно доброе, но до крайности глупое.
V. Скверное утро
Виталин проснулся рано в утро после представления, хотя заснул только в пять часов. Он помнил, что должен писать статью в одни журнал и что эта статья нужна через два дня.
По обыкновению, он спросил девочку, принесшую ему два чайника, не был ли кто у пего вчера.
Та отвечала, что был кто-то и даже фамилию сказывал, но фамилию она забыла, а помнит только, что столоначальник.
От слова «столоначальник» Виталина всегда подирал мороз по коже. Надобно сказать, что он служил когда-то, и именно в ту эпоху, когда, расквитавшись навсегда с софистической жизнью, бросился искать положительной деятельности и думал найти ее в службе. Но или понятия его о положительности были слишком странны, или просто он был вовсе ни к чему не годен, только ему, что называется, не повезло. Он работал усердно, особенно сначала, но искал всегда бог знает чего и как-то не мирился с мыслию, что дело не в деле, а в очистке бумаг. Притом же он никак не мог привыкнуть к тонкостям и различиям, которые должны быть соблюдаемы в сношениях с разными классами.
Одним словом, был ли он виноват или нет, но он бросил и службу, как бросил софистику, и с этих пор при слове «столоначальник» пред ним представал всегда печальный образ с длинною, страшно длинною физиономией, с мыслию об отношении и нагоняе, или о нагоняе и об отношении.
Поэтому читателю не покажется странным, что неприятное чувство стеснило его грудь при этом слове и что он продумал довольно долго, какой бы это столоначальник вздумал сделать ему визит, и притом поздно вечером.
Наконец, он провел рукою по лбу, как будто желая смахнуть упорно засевшую мысль, и стал писать.
Не прошло получаса, как у дверей его послышались шаги и шарканье резиновыми калошами.
Он обернулся с невольною досадою, но при виде отворившейся двери и показавшегося лица его физиономия приняла обыкновенно спокойное и даже приветливое выражение.
Вошедший был человек среднего роста, с сгорбившеюся наружностию, с волосами, остриженными чрезвычайно гладко, и с глазами, которые беспрестанно, казалось, бегали и искали чего-то.
– А! здравствуйте, мой любезнейший Червенов, – обратился к нему Виталин.
– Здравствуйте… Ну, что, как вы? А? – говорил пришедший, не переставая искать глазами.
– Вы у меня вчера были? – спросил Виталин.
– Я? нет. А кто у вас вчера был? был кто-нибудь? – спросил Червенов, как будто забывая, что Виталин спрашивал, не зная, кто у него был.
– То-то, не знаю, – отвечал Виталин. – Ну что, как вы?
– Я? да что, ничего, – говорил Червенов, садясь на порожний стул. – Скверно на свете жить.
– Старая истина!
– Вам, батюшка, хорошо – вы литератор, – продолжал Червенов, и в его словах отзывалась едкая, желающая рассердить ирония…
Но рассердить Виталина было вообще почти невозможно.
– Вчера был в канцелярии Г**, – начал опять Червенов, – и говорил, что вы ему должны; должны вы ему?
– Да, – отвечал Виталин, – а давно ли он был?
– На днях.
– Я ему отослал долг вчера.
– А! отослали… Были вы в субботу в Михайловском? отчего вы не бываете в Михайловском?
– В это время все денег не было, – отвечал Виталин.
– А в Александрынском бываете? Нет, – продолжал Червенов очень громко и как бы сердясь, – вы не бываете в Михайловском потому, что вы человек выше других людей, что вам это кажется trop commun.[17]