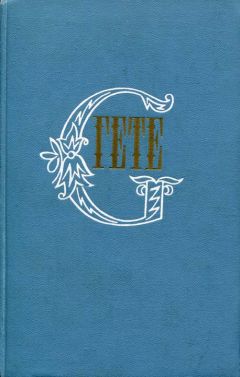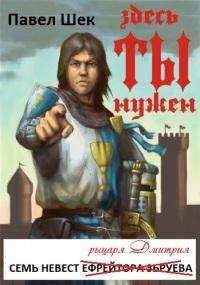Андрей Дмитриев - Дорога обратно
Не зная времени и не чувствуя его, Мария без передышки отшагала почти целую ночь. Она поняла это, пусть еще и не начинало светать, по тому, как задышала во тьме чья-то проснувшаяся жизнь: зашуршало в траве и кустах, словно бы вздохнуло и зашелестело в воздухе над дорогой, даже птицы стали подавать голоса, даже автомобили принялись вроде бы чаще и веселее сновать туда и сюда по шоссе. Ноги Марии, онемев, отказывались идти дальше. Она свернула с обочины, продралась, оцарапавшись, сквозь кусты, в которых кто-то порхнул, улетая или улепетывая, - совсем отупевшая от усталости, она даже не испугалась. Прошла мокрой стерней к чернеющей во тьме копне, забралась в нее, чихнула и сразу уснула без снов.
Пробуждение было опять поздним, под высоким уже и нагревшимся солнцем. Ноги ныли, как надломанные, и ступали, опасливо, словно слеги болото, пробуя твердый асфальт... Понемногу боль в ногах притупилась, они обвыклись в ходьбе, но в дороге Марию догнал голод и донимал ее, не отставая, как старый и недобрый, наглый знакомый. В первой же придорожной деревне, что была на ее пути, Мария отыскала водозаборную колонку и навалилась всей грудью на ее рычаг - утоляя жажду, наполняя водой пустой живот ради недолгой иллюзии сытости. Потом попыталась добыть еды. Перед домами было безлюдно, за заборами безмолвно; все жители, должно быть, были на колхозной работе; едва уловимые, словно бы стрекот кузнечика, звуки ее навевало издалека слабым ветерком. Один лишь пузатый старик, похожий на артиста Андреева, оббивал тяпкой свой огород за синим штакетником. Его линялая, без пуговиц, милицейская рубашка смутила Марию, и она не решилась к нему обратиться. Она углядела детей на дальнем краю деревни, двух мальчиков и девочку лет пяти, играющих в пыли с полосатой кошкой цвета пыли. Заторопилась к ним, сочиняя чуть ли не на бегу веселые слова о том, что тете с дороги надо бы немножко поесть, но дети, как увидели ее, испугались и с противными криками кинулись в свой палисадник. Кошка осталась на месте, поглядела на Марию, отвернулась и уснула в пыли. Мария заглянула в окно крайней избы и, увидев в окне себя, не меньше детей была напугана своим лиловым, без глаз, оплывшим лицом, клоками спутанных в войлок волос под тюбетейкой, остатками сена, торчащими, как из копны, из грязного выреза блузки.
Теперь ей приходилось отдыхать, и подолгу, едва ли не у каждого километрового столба. Безостановочный и резвый прежний шаг, стоило вспомнить о нем, вызывал у Марии зависть к самой себе. Чем медленнее она плелась от столба к столбу, тем меньше надеялась попасть дотемна в спасительный Остров, где стояли хорошо знакомые ей зеленые ворота с железной звездой, за которыми жил и служил старшина Сочихин, передававший ей когда-то едва ль не даром целые тюки с обносками новобранцев. Поначалу Остров и старшина нетерпеливо угадывались ею за каждым пологим и долгим холмом, на который взмывало шоссе, но уже скоро, идя в гору, Мария думала не о старшине, но лишь о том, как ей легко, сравнительно с подъемом, будет спускаться с горы. День кое-как убывал, и силы, сколько было их, убывали; она бы и скоротала остаток дня где-нибудь в тенечке, чем себя мучить, но голод гнал ее вперед.
И никакой это не голод, трунила она над собой, привыкая к нему, - это временная неприятность мне за мою дурость. Голод был в Гдове, когда мамка померла и когда тетка Валя взяла к себе нахлебницей, вот только хлебом не особенно делилась. Голод был в детдоме, когда старшие, стакнувшись, стали отбирать порцию, и даже пришлось бежать оттуда, как и от тетки Вали... В Молодях было скудно, но не голод: родной, хотя до той поры и не знакомый ей отец Павел Михайлович, которому она помогала летом пасти, а зимой - по дому, делился с нею трудоднями из кулька. Кулек, что ни год, чах, Павел Михайлович грустил, болел; пришлось уйти... Голода не было под Середкой, на лесозаготовках, куда удалось пристроиться при кухне. Он снова начался вместе с войной, в первые же дни ее, когда весь лесозаготовитель разбежался, прихватив припасы, лес горел от бомб и от пальбы, и солдатики, сперва свои, потом немецкие, подъели подчистую все вокруг. Голод погнал во Псков, там уже были немцы. Нестарый Кнуче увидел ее на мосту через Пскову и поманил ее к себе. Посмотрел в глаза, достал и медленно отрезал ломоть сала от аккуратного, с полкирпича, шматка в удивительной прозрачной тоненькой обертке... С Кнуче повезло: он кормил, от себя не отпускал и сделал так, что ее, молодую и сильную, не угнали в Германию. Других молодых и сильных брали по спискам, ловили в облавах, кто вырывался, били и грузили в товарняк - ее не трогали. Это было несправедливо, но повезло. Когда же немцев вышибли, ей попомнили и Кнуче, и сало в целлофане - все пришлось выслушать и, как ей объявили, за все ответить. Это было справедливо, но не повезло: могла бы вовремя уйти куда угодно, да застряла, соблазнясь работой и пайком. В разваленном Пскове, где от вокзала до Кремля было голо и только дым шел из землянок, работы всем хватало; казалось, можно б было выбирать, где посытней и где по силам, но выбирать ей еще долго не пришлось.
Тогда-то Мария и научилась отдыхать, сидя на корточках: она могла, не чуя ног, сидеть так сколь угодно долго, пока конвой не поднимал ее, - сидеть, закрыв глаза, всерьез переживая мысли, по правде, до того дурацкие, что ей самой потом, уже шагаючи в шеренге, делалось перед собой неловко и смешно, еще и странно оттого, что неловкие мысли эти происходят с ней всегда и только во время отдыха на корточках. Вот и теперь, сидя на корточках под остывающим вечерним небом, Мария сумрачно переживала мысль о том, как несправедливо был организован день рождения Пушкина. Там, в Пушгорах, все, кто собрался, шли тесною толпою вместе, и идти было легко, а возвращаться ей приходится одной, и это нелегко. И надо было бы устроить так по случаю торжеств, чтобы, отпраздновав, все вместе шли во Псков торжественным походом: пели бы песни, жгли костры, делились бы друг с другом бутербродом, анекдотом и душевным словом... Там, правда, очень многие - с детьми, спохватывалась мысль Марии, и Мария, не открывая глаз, не отрывая подбородок от коленки, соглашалась: детям это тяжело. Мария поднималась и гнала себя вперед, сперва утешив себя мыслью, что ей приходится страдать ради детей, потом дурацкой этой мысли устыдясь.
Как только начало темнеть, Мария услыхала за спиной тяжелый, мерный, дробный грохот. Оглянулась на ходу. Взвод солдат, гремя кирзой, подбитою железом, шагал за нею по шоссе; скоро обогнал ее; она прибавила немного шагу, стремясь не отставать, пытаясь даже идти в ногу - и следом за солдатами вступила в Остров, уже опущенный в ночную тьму.
Взвод свернул и исчез, не дошагав до реки. Ажурный мост ныл во тьме, когда Мария переходила по нему через Великую. Городок был тих, глух, редкие окна горели. Мария прошла его насквозь почти до Оловяшкина. Как ни помнила их, а все с трудом разыскала ворота части, где служил старшина Сочихин.
Ворота долго гремели под ее ударами, прежде чем разъехались в разные стороны. Свет фонаря, словно бы лопнув, хлынул в глаза, в ушах раздался голос часового:
- Брысь, бабуленция, иначе наваляю.
Мария зажмурилась и храбро крикнула в ответ:
- Как бы тебе, сынок, не наваляли. Старшину Сочихина зови. И быстро. Спит - буди.
- Попробуем, - сказал, подумав, часовой и погасил фонарь. Ворота съехались перед лицом Марии. Долго было тихо, Мария стала стоя засыпать, но вновь раздался гром ворот, где-то слева наверху вспыхнул прожектор, опять к Марии вышел солдатик-часовой, с ним - офицер в косом ремне, продетом под погоном, в простом ремне с кобурой, с красной повязкой на рукаве. Сказал ей: "Ну?". Мария вежливо ответила, что позарез ей нужен старшина Сочихин, так срочно нужен, что речи быть не может, чтоб ждать его до самого утра. Добавила:
- Ведь я издалека.
Помявшись, офицер кивнул:
- Иди за мной.
Она пошла за офицером. Часовой, шагая следом, дышал ей в затылок. В дежурке офицер уселся за стол, ее усадил напротив, снял фуражку, закурил, потом сказал:
- Но я не знаю никакого старшину Сочихина. Он здесь давно?
Мария подтвердила.
- А я недавно, - офицер быстро поглядел на часового, стоявшего в дверях. Абросова ко мне.
Часовой исчез. Молчали. Офицер курил. Марию клонило в сон. Пришел Абросов, хлопнув дверью. Пытался отрапортовать:
- Товарищ капитан, ротный старшина Абросов...
- Проснись, Абросов, и скажи: Сочихина знаешь?
- Так точно, знал, - ответил старшина.
- Ах, знал, - дежурный офицер сочувственно, но и с облегчением закивал Марии. - Выходит, нету его здесь, мамаша. - Он обернулся к старшине. - Давно его перевели? Куда, не помнишь?
- Куда-куда... да никуда, - сказал угрюмо сонный старшина. - Он у нас умер прямо в части, прошлой осенью еще.
- Как! - тихонько вскрикнула Мария.
- Докладывай, Абросов: как? - испуганно потребовал дежурный офицер.
- Ну, как... - задумался Абросов; сосредоточился и доложил: - Охнул и помер.