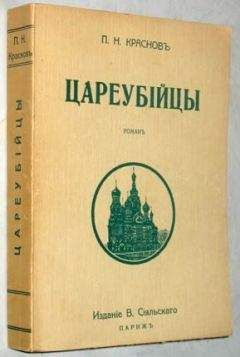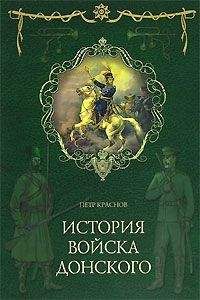Петр Краснов - Largo
— Да на что полиции погром? — сказал Панченко.
— На что? Усердие свое показать и поживиться на нем. Вы думаете — околодочные надзиратели теперь не обходят богатых евреев Энска и не взимают мзду за то, что их при погроме не тронут?
— Вот это, действительно, доказать надо, — сказал Яков Кронидович. — Чего вы хотите, Владимир Васильевич? Чтобы преступление осталось безнаказанным? Вы говорите о погроме! Но именно — молчание правосудия, нерозыск виновных в убийстве мальчика, оставление этого дела в темноте — вот такое отношение к этому страшному делу может вызвать в толпе погром. Ибо, чем темнее толпа, тем больше в ней искания и жажды правды.
— Правда в еврейском погроме? — наступая на Якова Кронидовича, в негодовании воскликнул Стасский.
— Правда в раскрытии преступления, и Государь Император совершенно прав, приказывая раскрыть это дело до дна.
— Значит и Николай II замешан в кровавом навете на евреев? — спросил злобно Стасский.
— Ни о каком кровавом навете нет никакой речи, — сказал Яков Кронидович. Он тоже разгорячился и взволновался. — Никто евреев в целом не обвиняет. В каждом народе есть свои изуверческие секты, есть просто изуверы — и правительство обязано с ними бороться. Это его долг!
— В еврействе нет сект. Еврейство едино, — вставил Стасский, но не мог остановить Якова Кронидовича, который настойчиво продолжал:
— В каждом народе есть свои изуверы… И если правительство, нисколько не стесняясь, в широких рамках поднимало дела о православных изуверах — о скопцах, хлыстах, о дыромолах, привлекало к ним массу подсудимых и жестоко их карало не за веру, а за изуверство, если правительства Запада поднимали дела о черной мессе и кровавых жертвах сатане, почему оно должно молчать, когда это касается изуверства еврейского?
— Средние века!.. средние века! — зажимая уши кричал Стасский. — В угоду толпе вы хотите раздражать мировое еврейство! Поплатитесь за это. Россия в долгах… Россия нуждается в займах… А вы опять раздразните Шиффа!..
— Нет, Владимир Васильевич. Отнюдь не в угоду толпе, а ради удовлетворения справедливых требований народа.
— Народ, народ! Что вы мне толкуете о народе. Точно я не знаю, что такое народ?
— Думаю, что вы не знаете. Вы считаете, что народ и пролетариат одно и тоже. Жестоко ошибаетесь: народ не пролетариат. Пролетариат так же откололся от народа, как откололась от него интеллигенция. Пролетариат — это отброс народный. Ваши комические партии, все эти эр-деки, эс-эры, кадеты с их комитетами народу никак не нужны. Они ему просто непонятны. Народу нужна правда. Эту правду он видит в царе…
— До Бога высоко, до царя далеко, — вставил Стасский.
— Если уже надо заменять существующий порядок и свергать царя — то народу надо выставить какой то высший, общий и доступный ему идеал — и этого идеала интеллигенция с ее партиями ему не дает. Нет его и у настроенного интеллигенцией пролетариата. Есть только слова — и те чужие — еврея Карла Маркса… В партиях — слова. На болтовне далеко не уедешь. Народу нужна правда. Эту правду ему хочет дать Государь — и я еду, чтобы у трупа спросить, кто и как его убил.
Последние слова Яков Кронидович произнес с особенною силою, в упор глядя острыми сверкающими глазами в глаза Стасского.
Стасский хотел что-то возражать, но в это время дверь в кабинет приотворилась и в нее показалась Валентина Петровна.
— Яков Кронидович, — сказала она, — Обри приехал. Можно начинать?
Стасский точно обрадовался тому, что спор этим был прерван.
— Остаюсь при своем мнении, — важно сказал он, — вам ехать никак не надо… И вы и не поедете… Ну, идемте слушать…
И он первый направился в двери гостиной. За ним пошел Полуянов, Яков Кронидович и Панченко. Последним выходил Петрик.
X
Все то, что слышал сейчас Петрик, казалось ему ужасным. Если бы он прочел это в книге — он не поверил бы ни одному слову, и в негодовании отшвырнул бы эту книгу. Перед ним опять открывался новый мир, которого он не знал. На двадцать восьмом году жизни он первый раз узнал о партиях и услышал такие страшные слова! Государя Императора назвали просто: — Николай II… О Суворове — кого он боготворил, о Скобелеве, кто был его идеалом, сказали ужасные слова! О Боге!.. О Христе… о законе, о государстве! И кто говорил?! Первый ум России — Стасский, друг Толстого и философа Соловьева… Петрик молчал. Что он мог сказать, вставить, или возразить, когда он ничего не понимал и только чувствовал, что все, что говорилось Стасским, — ужасно? К Якову Кронидовичу зато он проникся громадным уважением и подумал, что божественная госпожа наша начальница имеет достойного мужа. Он шел сзади Панченки пришибленный и придавленный. Полутьма кабинета с волнами табачного дыма, стоявшими в нем, давила его. Тем более ослепил его блеск ярко освещенной, сверкающей дамскими туалетами гостиной. И первую он увидел — Валентину Петровну. Она усаживалась на табурете подле раскрытого рояля. Петрик увидал что-то нежное, розовое, воздушное, подобное цветку розы. Бледно-розовое легкое платье было украшено полоской, вышитой мелкими жемчужинами, вокруг открытого выреза у шеи и коротких широких рукавов и на поясе. В золотых волосах сквозила розовая лента. От этого платья кожа лица, груди и обнаженных рук казалась несказанно нежной и матовой. Валентина Петровна казалась моложе, юнее, сверкала прелестью свежести и невинности. Это была не та красавица в строгом городском taillеur'е, которую он увидал сегодня днем после семи лет разлуки. Девочкой Петрик любил ее и мечтал еще кадетом о королевне весенней сказки Захолустного Штаба. Он был тайно влюблен в нее, когда танцевал с нею юнкером и называл — божественной. Ее юная, мягкая прелесть девушки подавляла его и он назвал ее госпожей нашей начальницей. Днем — она была удивительно проста, мила и ласкова с ним. С ней было уютно, и он смог даже говорите в прежнем шутливом тоне, — сейчас в этом воздушном вечернем платье, ярко освещенная сверху от люстры и от ламп, стоявших на рояле, снова стала она недостижимой, далекой от него, королевной сказки Захолустного Штаба. Ему даже страшно было смотреть на нее — так была она прекрасна… Но он не мог оторвать от нее глаз. Он смотрел, как, усаживаясь и оправляя волны розовой материи, она чуть нагнулась и потом прищурила потемневшие глаза. Ее руки сверкали и были нежнее шелка, краше окаймлявших их жемчужин.
Гостиная была полна людей. На диване волны газа цвета желтой розы, прелестная головка и блеск черных волос, там легкий шелковистый бархат обрамлял красивое лицо блондинки… Никто не думал его представлять дамам. Валентина Петровна ушла в ноты. Яков Кронидович обтирал замшевым платком виолончель; какой-то черный маленький, худой человек во фраке усаживался подле Валентины Петровны и подкладывал к плечу платок, упирая в него скрипку. Готовился концерт. Было не до представлений и знакомств. Стасскому Панченко подвинул тяжелое кресло на самую середину гостиной и тот важно уселся на нем. Оставался только тоненький золоченый стульчик, стоявший в простенке между окон подле бронзовых часов и корзины с цветущей азалией. Он был слишком на виду и Петрик не решался сесть на него.
Тут увидал он вдруг Портоса. Штабс-капитан Владимир Николаевич Багренев стоял на другой стороне гостиной у двери в прихожую. Он был в длинном сюртуке с эполетами. Он небрежно заложил руку в карман, откинув белую подкладку полы сюртука, и прислонился к притолоке. Портос показал Петрику глазами, чтобы он не «рипался» и садился на стулик — и Петрик покорно сел в натянутой позе. Валентина Петровна ударила пальцем по клавише, давая тон. Ей ответила скрипка, потом виолончель. В зале наступила полная, точно священная тишина.
Петрик чувствовал себя ужасно неловко. Валентина Петровна посмотрела блестящими, куда-то далеко, далеко ушедшими глазами на черного человечка со скрипкой и молча кивнула ему головой.
Концерт начался.
XI
Играла одна скрипка. Она рассказывала о чем-то мирном и тихом, далеком и прекрасном, как детство, как мамина сказка, как ранние девичьи мечты. Звуки крепли, росли и к ней пристала виолончель. Теперь два инструмента слились в один дружный хорал и будто говорили о счастье, о покое… Рояль лишь изредка, то тут, то там — точно вздохнет, будто предупредит о чем-то и притихнет. Звуки росли, ширились, рояль загремел вовсю, почти заглушая скрипку и виолончель. Под прекрасной, тонкой шелковистой кожей играли и прыгали мускулы рук Валентины Петровны, быстро-быстро бегали по клавишам ее тонкие пальчики и Петрику казалось, что они переломятся от сильных, резких ударов.
Все молчали, благоговейно слушая. В двух шагах от Петрика красивая брюнетка, сидевшая с вышиванием, откинула работу и, положив руки на колени, смотрела вдаль задумчивыми синими глазами. Точно, слушая игру, она что-то видела. Стасский, в кресле, выдвинутом на середину зала, полузакрыв глаза, щурился и кривая усмешка застыла в морщинистых губах. Генерал Полуянов нагнул на бок голову и смотрел на концы своих лаковых ботинок. На диване полная, красивая дама в пепельно-русых волосах мечтательно задумалась. Дама в платье желтой розы смотрела, не сводя глаз с играющих. Портос, стоявший у двери, не шелохнулся. И в зале точно и не было людей, но лились, звучали, пели, рыдали, плакали, рассказывали что-то длинное, значительное и вместе с тем простое звуки рояля, скрипки и виолончели.