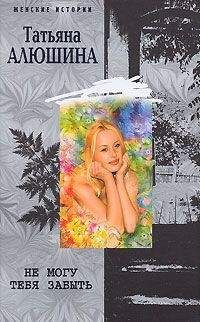Максим Горький - Жизнь Клима Самгина (Часть 3)
Он весь как-то развинченно мотался, кивал головой, болтал руками, сожалительно чмокал и, остановись вдруг среди комнаты, одеревенев, глядел в пол - говорил глуховатым, бесцветным голосом:
- Всё - программы, спор о программах, а надобно искать пути к последней свободе. Надо спасать себя от разрушающих влияний бытия, погружаться в глубину космического разума, устроителя вселенной. Бог или дьявол - этот разум, я - не решаю; но я чувствую, что он - не число, не вес и мера, нет, нет! Я знаю, что только в макрокосме человек обретет действительную ценность своего "я", а не в микрокосме, не среди вещей, явлений, условий, которые он сам создал и создает...
Эта философия казалась Климу очень туманной, косноязычной, неприятной. Но и в ней было что-то, совпадающее с его настроением. Он слушал Кумова молча, лишь изредка ставя краткие вопросы, и еще более раздражался, убеждаясь, что слова этого развинченного человека чем-то совпадают с его мыслями. Это было почти унизительно.
События, точно льдины во время ледохода, громоздясь друг на друга, не только требовали объяснения, но и заставляли Самгина принимать физическое участие в ходе их. Был целый ряд причин, которыми Самгин объяснял себе неизбежность этого участия в суматохе дней, и не было воли, не было смелости встать в стороне от суматохи. Он сам понимал, что мотивы его поведения не настолько солидны, чтоб примирить противоречие его настроения и поведения. Он доказал себе, что рисковать собою бескорыстно, удовлетворяя только свое любопытство, - это не всякому доступно. Но он принужден был доказать это после того, как почувствовал неловкость перед хлопотливой Анфимьевной и защитниками баррикады, которых она приютила в кухне, так же, как это сделали и еще некоторые обыватели улицы. Неловко было сидеть дома, поглядывая в окна на баррикаду; обыватели привыкли к ней, помогали обкладывать ее снегом, поливать водой. Вообще действительность настойчиво, бесцеремонно требовала участия в ее делах. Послом действительности к нему чаще других являлась Любаша Сомова, всегда окрыленная радостями. В легонькой потрепанной шубке на беличьем меху, окутанная рваной шалью, она вкатывалась, точно большой кусок ваты;
красные от холода щеки ее раздувались.
- Ура! - кричала она. - Клим, голубчик, подумай:
у нас тоже организовался Совет рабочих депутатов! - И всегда просила, приказывала: - Сбегай в Техническое, скажи Гогину, что я уехала в Коломну; потом - в Шанявский, там найдешь Пояркова, и вот эти бумажки - ему! Только, пожалуйста, в университет поспей до четырех часов.
Сунув ему бумажки, она завязала шаль на животе еще более туго, рассказывая:
- Какие люди явились, Клим! Помнишь Дунаева? Ах...
"Дурочка", - снисходительно думал Самгин. Через несколько дней он встретил ее на улице. Любаша сидела в санях захудалого извозчика, - сани были нагружены связками газет, разноцветных брошюр; привстав, держась за плечо извозчика, Сомова закричала:
- Петербургский Совет ликвидировали!
"Дурочка".
Но, уступая "дурочке", он шел, отыскивал разных людей, передавал им какие-то пакеты, а когда пытался дать себе отчет, зачем он делает все это, - ему казалось, что, исполняя именно Любашины поручения, он особенно убеждается в несерьезности всего, что делают ее товарищи. Часто видел Алексея Гогина. Утратив щеголеватую внешность, похудевший, Гогин все-таки оставался похожим на чиновника из банка и все так же балагурил:
- В Коломну удрала, говорите? - спрашивал он, прищурив глаз. - Экая беглокаторжная! Мы туда уже послали человека. Ну, ладно! Пояркова искать вам не надо, а поезжайте вы... - Он сообщал адрес, и через некоторое время Самгин сидел в доме Российского страхового общества, против манежа, в квартире, где, почему-то, воздух был пропитан запахом керосина. На письменном столе лежал бикфордов шнур, в соседней комнате носатый брюнет рассказывал каким-то кавказцам о японской шимозе, а человек с красивым, но неподвижным лицом, похожий на расстриженного попа, прочитав записку Гогина, командовал:
- Поезжайте на Самотеку... Спросите товарища Чорта.
Самгин шел к товарищу Чорту, мысленно усмехаясь:
"Чорт! Играют, как дети".
На Самотеке молодой человек, рябоватый, веселый, спрашивал его:
- А гантели где?
- Гантели?
- Ну да, гантели! Что же я - из папиросных коробок буду делать бомбы?
Самгин уходил, еще более убежденный в том, что не могут быть долговечны, не могут изменить ход истории события, которые создаются десятками таких единиц. Он видел, что какие-то разношерстные люди строят баррикады, которые, очевидно, никому не мешают, потому что никто не пытается разрушать их, видел, что обыватель освоился с баррикадами, уже привык ловко обходить их; он знал, что рабочие Москвы вооружаются, слышал, что были случаи столкновений рабочих и солдат, но он не верил в это и солдат на улице не встречал, так же как не встречал полицейских. Казалось, что обыватели Москвы предоставлены на волю судьбы, но это их не беспокоит, - наоборот, они даже стали веселей и смелей.
Какая-то сила вытолкнула из домов на улицу разнообразнейших людей, они двигались не по-московски быстро, бойко, останавливались, собирались группами, кого-то слушали, спорили, аплодировали, гуляли по бульварам, и можно было думать, что они ждут праздника. Самгин смотрел на них, хмурился, думал о легкомыслии людей и о наивности тех, кто пытался внушить им разумное отношение к жизни. По ночам пред ним опять вставала картина белой земли в красных пятнах пожаров, черные потоки крестьян.
- Да, эсеры круто заварили кашу, - сумрачно сказал ему Поярков скелет в пальто, разорванном на боку; клочья ваты торчали из дыр, увеличивая сходство Пояркова со скелетом. Кости на лице его, казалось, готовились прорвать серую кожу. Говорил он, как всегда, угрюмо, грубовато, но глаза его смотрели мягче и как-то особенно пристально; Самгин объяснил это тем, что глаза глубоко ушли в глазницы, а брови, раньше всегда нахмуренные, - приподняты, выпрямились.
- Крупных, культурных хозяйств мужик разрушает будто бы не много, но все-таки мы понесем огромнейший убыток, - говорил Поярков, рассматривая сломанную папиросу. - Неизбежно это, разумеется, - прибавил он и достал из кармана еще папиросу, тоже измятую.
Во всем, что он сказал, Самгина задело только словечко "мы". Кто это мы? На вопрос Клима, где он работает, - Поярков, как будто удивленно, ответил:
- В революции... то есть - в Совете! Из ссылки я ушел, загнали меня чорт знает куда! Ну, нет, - думаю, - спасибо! И - воротился.
- А где Кутузов? - спросил Клим.
- Был в Питере. Теперь - вероятно - на юге.
"Мы", - иронически повторил Самгин, отходя от Пояркова. Он долго искал какого-нибудь смешного, уничтожающего сравнения, но не нашел. "Мы пахали" не годилось.
Как-то вечером, возвращаясь домой, Самгин на углу своей улицы столкнулся с Митрофановым. Иван Петрович отскочил от него, не поклонясь.
"Он должен чувствовать себя весьма плохо", - подумал Самгин, несколько смущенный невежливостью человека "здравого смысла". Взглянув назад, он увидал, что Митрофанов тоже остановился, оглядывается. Климу хотелось утешительно крикнуть:
"Все это - ненадолго!"
Но Митрофанов сорвался с места и быстро пошел прочь.
Раза два приходила Варвара, холодно здоровалась, вздергивая голову, глядя через плечо Клима, шла в свою комнату и отбирала белье для себя.
Первый раз ее сопровождал Ряхин, демократически одетый в полушубок и валяные сапоги, похожий на дворника.
- Люди начинают разбираться в событиях, - организовался "Союз 17 октября", - сообщал он, но не очень решительно, точно сомневался: те ли слова говорит и таким ли тоном следует говорить их? - Тут, знаете, выдвигается Стратонов, оч-чень сильная личность, очень!
Помолчав, ласково погладив ладонью красное, пухлое лицо свое, точно чужое на маленькой головке его, он продолжал:
- Некоторые кадеты идут за ним... да! У них бунтует этот милюковец адвокат, еврей, - как его? Да - Прейс! Ядовитое... гм! Знаете, эта истерика семитов, людей без почвы и зараженных нашим нигилизмом...
О евреях он был способен говорить очень много. Говорил, облизывая губы фиолетовым языком, и в туповатых глазах его поблескивало что-то остренькое и как будто трехгранное, точно кончик циркуля. Как всегда, речь свою он закончил привычно:
- Но я - оптимист. Я знаю: покричим и перестанем, как только найдем успокоительную среднюю между двумя крайними.
Однако на этот раз он, тяжело вздохнув, спросил Самгина:
- Вы как думаете?
Самгин был доволен, что Варвара помешала ему ответить. Она вошла в столовую, приподняв плечи так, как будто ее ударили по голове. От этого ее длинная шея стала нормальной, короче, но лицо покраснело, и глаза сверкали зеленым гневом.
- Это ты разрешил Анфимьевне отдать белье "Красному Кресту"? спросила она Клима, зловеще покашливая.
- Я ничего не разрешал, она меня ни о чем не спрашивала...