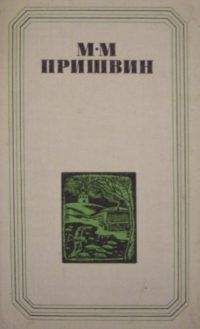Михаил Пришвин - Том 6. Осударева дорога. Корабельная чаща
Начальник, выйдя на берег, стал сейчас же крутить себе папиросу, другие вынесли из лодки тяжелые котомки, один достал несколько пачек папирос, всех наделил, все закурили.
– Табашники! – сказала Марья Мироновна. – Только вышли на берег – и небо коптить!
– Да уж! – сказал один зять.
– Что уж! – ответил другой.
– А котомки, – молвил Мироныч, – видно, тяжелые: смотри, как засутулились: небольшие мешки, а тягость какая.
– Да, Мироныч, – молвил Потапыч, – я в Поморье на них насмотрелся. Чует сердце мое, это вам неспроста: пора кончать вам в своем соку вариться со своими сигами да с мошниками. Время везде переходит, вот и до вас дошло.
Вытащив лодку, табашники направились к лучшему дому в селе, к дому Мироныча с крепким крестом, высокой сосной и резным оленем на крыше.
Один из молодых табашников попробовал свою силу на нем, но большой восьмиконечный крест и не дрогнул.
– Крепко ставлено! – сказал этот табашник.
– На уж! – ответил, услыхав эти слова, один зять. Посмотрев на прекрасного оленя, поставленного вместо князька, – он был вырезан весь из цельного куска дерева, – приезжие подивились.
– Коньки ставят, – сказал один, – чтобы князь не прел: это просто, а для чего трудился человек рабочий на такого оленя?
– Красота! – ответил другой.
– Что уж! – сказал зять в окне. – Понимают тоже, что есть красота.
– Батюшки мои, – вдруг воскликнула, вся переменяясь в лице, Марья Мироновна. – Да они, кажется, к нам идут!
– Понравился олень, – спокойно сказал Сергей Мироныч.
– Семушка, – крикнула Марья Мироновна на детский стол одному из приезжих внуков. – Семушка, скорей беги, скажи, как сумеешь: никого дома нет.
– Гораздо уж ты строга, – остановил ее Мироныч и махнул Семке рукой, чтоб сидел на месте и никуда не бежал.
– Табашники идут, слышишь ты, брат, табашники!
– Опять старая песня, – ответил Мироныч. – Теперь и хорошие-то люди курят табак, что с этим поделаешь! Не можем же мы всех заставить кровью своей кормить комаров, как делали наши отцы. И какая теперь людям от этого польза?
– Не польза, – ответила Марья Мироновна, – а пример. По хорошему примеру люди живут. Польза приходит сама собой. А если без примера будешь только за пользой гоняться – ничего не выйдет полезного. Сема, сейчас же беги!
Неизвестно, чем бы кончился для Семы спор двух упрямых стариков, только в это время застучали ноги по лестнице и твердый и сдержанный голос сказал:
– Разрешите войти, граждане!
V. Марья Моревна
Бывает, и в маленьких странах время обходит и щадит иные уголки до тех пор, пока не явится желание сохранить хоть один такой уголок неприкосновенным. Так бывает и в маленьких странах, а у нас, если обернуться лицом в прошлое, можно такое найти на нашей земле, что в других странах давно уже под землею.
Так обошла гражданская война Надвоицы, и все сохранилось здесь в народе, как будто жили все в одном доме, все были свои и пуще всего боялись нового человека. В забытом краю пели былины о Владимире Красном Солнышке, молились по не исправленным Никоном книгам, и конца света ждала не только одна Марья Мироновна на Карельском острове.
Но время вспомнило забытый край, и к своим людям постучался с виду чужой человек…
Чужой человек вошел, и свои люди за столом глядят на него, как стадо животных домашних глядит на зверя иной породы и следит внимательно за всеми его движениями, за выражением лица и фигуры.
– Хлеб да соль! – приветствовал чужой человек.
– Милости просим! – отвечали свои люди.
Вслед за начальником вошел тот военный в зюйдвестке с наганом, и когда он тоже сказал: «Хлеб да соль!» – то все сразу но голосу узнали в нем женщину.
– Там за дверью четверо моих ребят, – сказал начальник, – мы приехали сюда по большому государственному делу, нуждаемся ненадолго в квартире: очень скоро мы выстроим тут свой городок.
– Государственному делу, – отвечал Мироныч, – мы с охотой готовы служить и хорошим людям всегда рады. Зовите ребят ваших к нашему хлебу и соли.
– Табашники! – возмущенно прошептала Мироновна. Начальник это услыхал.
– Вы, – сказал он спокойно, обращаясь прямо к Мироновне, – не беспокойтесь; курить и сами не будем в избе, и за ребят отвечаю: не дыхнет никто табаком.
– Эх, сестра, – покачал головой Мироныч, – слыхала же ты: люди по большому государственному делу приехали, а ты со своим табаком заладила на всякого, как сорока про Якова! Зовите товарищей, присаживайтесь к столу, гости дорогие.
– Позовите ребят, товарищ Уланова, – распорядился начальник.
– Слушаю, товарищ Сутулов, – ответила по-военному женщина.
И, обернувшись, открыла дверь.
– Маша, – остановил ее начальник, – ты ребятам нашим скажи насчет табаку, как сейчас говорили: чтоб и духу не было.
– Слушаю, товарищ Сутулов, – ответила Уланова. И скоро привела сидевших в ожидании на лавочке возле дома молодых людей, немного оробевших под общим разглядыванием. Сутулов дельно высмотрел для них места за столом, усадил.
Уланова как будто сейчас только вдруг для всех открыла свои глаза, большие, карие и как бы одновременно печальные внутрь себя и веселые к людям. У русских людей это бывает, и у самой Мироновны раньше в молодости были такие глаза: сразу и печальные к себе и веселые к людям. С доброй внимательной улыбкой приезжая женщина оглядела всех, в одно мгновение запомнила и унесла все с собой, как уносит с собой все ей нужное налетающая на берег морская волна.
И Зуек с его удивленными большими глазами не остался незамеченным: волна, откатываясь, заметно на мгновение остановилась на нем и еще дольше остановилась на строгом красивом лице Марьи Мироновны. Отойдя в уголок, она там начала, стараясь быть незаметной, приводить себя в порядок и превращаться из морской волны и военного в женщину.
В крестьянских избах постоянно раздеваются и убираются на людях так, что все это видят и в то же время как будто и не замечают ничего, и Зуек тоже, как все, не таращил глаза в уголок, а все видел, все замечал про себя и что-то складывал у себя в голове.
Маша прежде всего сняла с себя загрязненную зюйдвестку, и каштановые волосы крупными золотистыми кольцами рассыпались вокруг лица и по плечам.
С того времени, как рассыпались волосы по плечам, Зуек стал себе складывать из Марии Улановой свою сказочную красавицу Марью Моревну. Так многие дети делают, так просто складывается целый мир свой собственный у каждого из нас в детстве, из обыкновенных, но еще не виданных вещей.
Приезжая женщина сняла с плеч свою котомку, вынула из нее сумочку кожаную, открыла ее, достала маленькое круглое зеркальце, привесила его на стене, зацепив за гвоздик. Зуек первый раз видел такое: это была хорошо'ему знакомая Марья Моревна. Чудесным было только одно: как могла она из сказки выйти сюда.
Она достала бутылочку маленькую с пробкой стеклянной, обвязанной чем-то и затянутой ниточкой, чтобы не выскочила. Вынула чистый вчетверо сложенный белый платок с цветочками и частыми дырочками по краям и немного полила на него из бутылочки, и бутылочка сверкнула в солнечном луче, как алмазная, своею гранью, и только коснулась, только слегка провела Маша платком по лицу – вдруг оказалось, что в бутылочке была живая вода.
Лицо Марьи Моревны стало цветистым, и по всей избе повеяло ароматом, как будто летом открыли окно, когда всюду цветут луга. Марья Моревна вынула из кожаной сумочки какую-то блестящую коробочку круглую, сняла с нее крышку, ваткой взяла белый порошок, покрыла им цветущее свое лицо, и оно стало, как небо в белых сквозных облаках на заре. Сложив обратно коробочку в кожаную сумку, она провела пальчиком по бровям – и они раскинулись, как крылья, когда птица спускается в воду. Потом она расстегнула военную куртку, и оттуда показалась кофточка, точно как бывает вечером на небе, розовая с голубым, и вся шашечками: одна к одной, розовая к голубой, голубая к синей и опять розовая. От шеи по этому вечернему небу спускается платочек с золотыми цветами. После этого красавица обернулась ко всем, села за стол, и сквозь улыбку глаза ее, и веселые, и печальные, и все понимающие, были как если бы на заре ко всему, что бывает прекрасного, еще вышли бы меж облак два человеческих глаза.
Так Зуек, создавая свою Марью Моревну, вспомнил, как однажды, после охотничьего трудного перехода с отцом, наконец-то под вечер темный лес разноцветными своими окошечками открыл вид на зарю, и так было хорошо на опушке, что и усталый отец остановился и стал вслух читать свои «Живые помощи». Он же, мальчик, стоял на месте, глядел на зарю и все чего-то ждал и ждал. Теперь он понял, что ждал тогда вот эти глаза, что этих глаз человеческих тогда не хватало в природе.