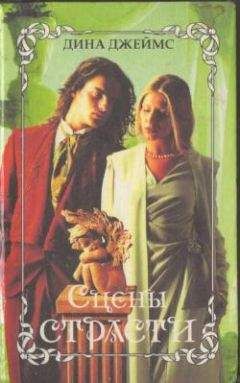Николай Лесков - Божедомы
– Это ваше последнее слово? – спросил Дарьянов.
– Да, – ответил судья и замолчал, не считая себя нимало обязанным сколько-нибудь занимать своего гостя.
Дарьянов встал и простился.
Возвратясь домой, где его ожидали Ахилла и Туберозов, он передал им весь свой разговор с мировым судьею и добавил:
– Я вам так, отец Савелий, советую. Уезжайте, проездитесь, а между тем… Постойте еще; черт не так страшен, как его пишут… Обратимся к вашему начальству и к прокурорской власти: смеет ли Борноволоков привлекать вас к такой ответственности. Обжалуем это.
– Да разве можно? – спросил шепотом упавший духом Ахилла.
– А отчего же?
– Можно?
– Да конечно. Самая большая преграда это… почта.
– Да; на почте непременно подлепют, – решил дьякон.
– И задержат-с.
– Это нипочем!
– Так вот: как послать?
– А вот как: я съезжу, – сказал дьякон.
– Да; в самом деле: он съездит, – поддержал Савелий.
Дьякон качнул в знак согласия головой и утвердил все это словом: “верхом”.
Через полчаса все эти три человека всякий у себя дома были заняты хлопотами по одному и тому же делу: Дарьянов писал прокурору; Туберозов архиерею, а Ахилла чистил у себя на корде коня и декламировал:
Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру…
При этом Ахилла, разумеется, нимало не сердился, а был в самом счастливейшем состоянии. Как в Нероне жил артист, так и в Ахилле жила душа какого-нибудь казака или веселого рыцаря. Страсть Ахиллы к лошадям и к совершению каких-нибудь всадничьих служений была безмерна. Не читая вообще никаких книг, он заучивал наизусть стихи, в которых хоть одно слово какое-нибудь говорилось про лошадь, и твердил эти стихи как ребенок, воображая себя тем, о ком там говорится. Теперь
Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру, —
и воображал себя гусаром. О судье он уже забыл и думать и помнил только об одном блаженстве, что он в эту же ночь выедет посланцем не “внарочку”, как он часто воображал себя, носясь верхом на конях своих, а “взаправду” посланцем… У него дух даже захватывало: он оседлал своего коня и побежал торопить бумаги. Получив конверт от Дарьянова, он явился к протопопу и, как тут приходилось ему с минуту обождать, то он этим временем утешал насчет судьи Наталью Николаевну.
– Вздор, – говорил он, – совершенный вздор и ничего не значит. Я думал, что это знаете… вот как арап в комедии: хоп, и слопает, и засудит, а на него еще пожаловаться можно… Ни-и-чего! Вот пусть-ка завтра ждет меня, а я
Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе. —
Ахилла получил конверт и благословение и от протопопа, поцаловал руку Натальи Николаевны и сбежал торжествующий с их двора, и не прошло получасу, как он пронесся уже верхом мимо их окон. Он был в старом подряснике, полы которого необыкновенно искусно обвернул вокруг ног, и в широкополой полусвященнической, полугарибальдийской мягкой шляпе. Остановив на минуту своего коня перед окнами дома Дарьянова, Ахилла быстро с сверкающими от восторга глазами вскинул вверх свою шляпу, распахнул подрясник и, указывая на видневшуюся из-за пояса рукоять ножа, прочел:
Булат – потеха молодца,
Ретивый конь… —
Ахилла погладил по гриве свою лошадь и продолжал:
Ретивый конь – потеха тоже…
Но…
Закончил он, тряхнув в воздухе шляпой:
Но шапка для него дороже…
За шапку все он рад отдать:
Коня, червонцы и булат.
Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея,
Царю Петру от Кочубея! —
Ахилла крепко насадил шляпу обеими руками себе на голову, сжал коленями лошадь, взвился и оставил вместо себя только одно густое облако серой пыли.
Выехал Ахилла вовремя, лошадь у него крепкая и быстрая, сам он наездник лихой и неутомимый, – он, конечно, не станет отдыхать
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе,
чтобы не разрушать свою иллюзию, что он казак с доносом к царю Петру, и к утру всеконечно будет в губернском городе и доставит кому следует порученные ему бумаги.
Выпроводив Ахиллу, Туберозов немедленно же собрался в путь и сам. Длинный, сухой дьячок Павлюкан, который обыкновенно исправлял у него кучерские обязанности во всех его поездках по благочинию, заложил в небольшую тележку Туберозова с кожаной будочкой пару его лошадок, и они уехали, а судье Борноволокову было послано об этом оставленное протопопом уведомление.
XVI
В то время, когда в Старом Городе удивлялись возникновению странного дела между Ахиллой, Туберозовым и завалящим комиссаром Данилкой, спорили и рассуждали, возможно ли такое дело, и предрешали, чем оно должно кончиться, дьякон жил в губернском городе, стараясь добиться ответов на привезенные им бумаги, а Туберозов тихо и неспешно обтекал села и деревушки своего благочиния.
Поездка на него действовала чрезвычайно благотворно: раздражительность его проходила, он успокоивался и даже умилялся. Прошло две недели со дня его выезда. Он побывал в это время везде, со всеми ласково поговорил и всем, кого посетил он в эту поездку, показался еще более, чем когда-либо, участливым, нежным и внимательным. Бедствия, нужды, крайнее невежество и глубокое нравственное падение духовенства, всегда трогавшее душу отца Савелия, – на этот раз действовали на него еще сильнее. Во всех разговорах со своею во Христе братиею, со всеми, кого надо было приподнять, ободрить на борьбу; кого надо было пощунять и похаять, отец Туберозов был столь мягок, столь целебен и тепел, что один сельский дьячок Василий Хохлов, некогда оригинально наказанный протопопом за то, что, владея кистью, изобразил, по своей фантазии, Бога Отца почившим от всех дел своих на кровати, выпроваживая отца Туберозова из своего селения за околицу, обратился к причту и сказал:
– Ей-Богу, отцы, наш благочинный просто яко пластырь целительный к нашим ранам прикладывается.
И сравнение, сделанное дьячком Хохловым, действительно было очень удачное. В Туберозове надо всем теперь преобладала особливая, нежная старческая доброта, по которой есть обычай предсказывать, что человек, дошедший до такой нежности, уже близок к смерти. Он обтекал свое благочиние как миротворец, и все путешествие его было как бы прощальная тихая вечеря любви и единения. Но наконец все, что должен был посетить Туберозов, он уже посетил и держал обратный путь к дому. Это было в очень жаркий день среди знойного лета.
От последнего села до города оставалось ехать около сорока верст. Туберозов выехал не совсем рано и едва успел сделать половину пути до наступления нестерпимого пеклого жара. Дальнейший путь становился до крайности затруднительным: лошади мылились и потели; усталость их была очевидна и возбуждала участие. Туберозов решился остановиться на покорм и отдых. Он не хотел заезжать никуда на постоялый двор, да по глухому проселочному тракту, которым шел путь, кстати, и не было ни одного порядочного двора, которому не следовало бы предпочесть небесную кровлю. Протопоп вспомнил очень хорошее место у опушки леса, в так называемом Корольковом верху, откуда получал свое начало гремучий ручей и которое теперь находилось всего в двух или трех верстах. Он положил доехать до этого места и там и остановиться под небесным сводом. Вот и это место: это очень хорошее место. Отсюда открывается вся плоская покатость, ведущая к городу, и в конце этой покатости, невероятно далеко, почти за двадцать с лишком верст мелькают золотые главы церквей самого города. Это неизмеримая панорама – это живой укор тому, кто славил Русь, видя в ней “небо, ельник, да песок”. Отсюда вперед широко русская степь пораздвинулась, а сзади за плечами стоит, словно старый лохматый кошель старины, безначальный, дубравный и крепкий дремучий лес. Ему нет измерений; он тянется на необъятное пространство до соединения со сплошным полесьем Десны. Слева видна темная котловина, по которой течет река Турица, а справа зеленый овражек, из которого бурливым ключом бьет гремяк. Здесь тихо, свежо и прохладно. Утомленный зноем Туберозов, как только стал здесь, так почувствовал себя прекрасно. В густом, темно-синем молодом дубовом подседе стоит живительная свежесть. На упругих, словно в зеленый воск обмокнутых листьях ни соринки. Повсюду живой, мягкий успокоивающий мат. Из-под листвы инде глазеет на свет яркоцветная волчья ягода; выше вся озолоченная светом стоит сухая орешина, а возле на теплой коричневой почве раскинуты листья папороти, и под ней, как красный коралл, костяника ютится под белым и крепким боровиковым грибом.
В тех петых лесах Германии, которые вокруг обнесены частоколом, в тех сухих перелесках, где каждая пташка тащит на шейке докучливый паспорт, нет ничего в этом роде.