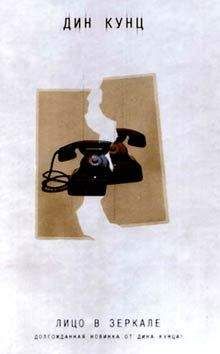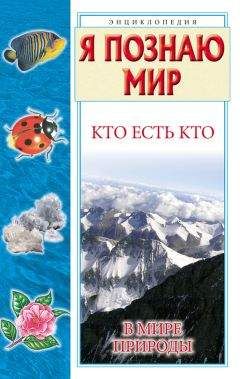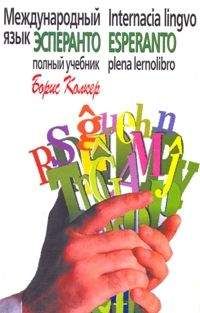Иван Истомин - Первые ласточки
Все лето я соблюдал постельный режим.
Тяжелый год
Пришла осень — дождливая, слякотная, скользкая. Я очень редко выходил на воздух, больше отлеживался, предавшись чтению книг. Да и в столовую ходил в последнюю очередь — стыдно было показаться людям без ноги. А студентов нынче стало много — в техникум приняли большую группу зырян из Салехардской средней школы (видимо, прошлогодний опыт оказался положительным в смысле укрепления контингента студентов). Кроме «старичков» прибыло из районов немало новых на учебу. Ожил, загудел техникум.
Но особенно неудобно было мне перед директором и учителями — ни с кем из них я не посоветовался, идя на операцию. «Осудят, поди», — думалось мне. И конечно, не все из них одобряли мой поступок, хотя это касалось только меня самого.
— М-да, — грустно покачал головой директор, сразу же навестив меня после возвращения из поездки. — Надо было мне взять тебя в Москву. Зря ты лишился ноги…
— Поправлюсь и попробую ходить на деревяшке, — сказал я тоном оправдания.
— Теперь уж только на это надежда. Долечивайся, поправляйся.
Примерно то же говорили мне Алексей Евгеньевич, Николай Петрович и другие преподаватели.
Устин, Петя, Катя, да и остальные ребята, увидев меня без ноги, были поражены, как и Капитоша. Долго расспрашивали, как все это произошло, было ли больно. А потом, стараясь, видимо, рассеять мою грусть, начали наперебой рассказывать о невероятных «чудах», виденных ими в Москве. Я слушал их, разинув рот, и сожалел в душе, что не поехал с ними в Москву.
Началась учеба, но я пока не мог посещать занятия. На основном курсе, кроме нас, прошлогодних шести студентов, появился еще один — Леня Киселев, обрусевший ханты, симпатичный, с горбинкой на носу, развитый парень. О первокурсниках дирекция техникума старалась проявлять особую заботу — сколько лет потребовалось, чтобы создать хотя бы этот маленький контингент. Меня, Гошу и Леню поместили жить в отдельную небольшую комнатку, но уже никто не протестовал против этого. К тому же я, еще больной, нуждался в спокойной обстановке.
Недели через три или четыре и я пошел на занятия. Классы, как и в прошлом году, помещались под железной крышей, но сейчас часть комнат в нем была занята под общежитие девушек, и занятия проводились в две смены. Техникум остро нуждался в помещении. Напротив интерната, чуть левее, строили большое двухэтажное здание средней школы. По слухам, нам обещали там место.
А пока приходилось, особенно нашему малолюдному курсу, заниматься иногда в общежитии, как и в первый год существования техникума, с той лишь разницей, что сидели мы не на топчанах, а на табуретках и писали вместо классной доски на черном лаке круглой печи-контрамарки. Приходилось то и дело вставать, чтоб прочесть начало и конец алгебраического примера или предложения на уроке русского или ненецкого языков. Было очень неудобно. Вся эта неучебная обстановка в какой-то мере расхолаживала студентов. Изучаемый же материал по некоторым предметам оказался весьма трудным для некоторых из нас. К тому же кое у кого имелись небольшие «хвосты» за предыдущие классы.
А тут еще новые трудности поджидали нас.
— Однако, замерзнем мы нынче в интернате, — все чаще начал тужить Гоша. — Дом не отштукатурен. Окна — как ворота широченные. А зима-то — сердитая ныне.
Зима и вправду выдалась исключительно лютая — морозы и морозы. Сколько ни старались топить печи — в общежитии температура не поднималась выше нуля. Чтобы как-нибудь провести ночь, мы, мужской состав, со всех комнат собирались в столовую, где посередине была установлена железная печка. Поочередно дежуря, ее топили круглые сутки, но тепло держалось только возле нее.
— Эй, сосульки! У кого есть лишняя одежда, дайте мне! Напялю на себя и лягу спать, — говорил Федя Янгасов безо всякой шутки.
Так и вынуждены мы были делать. Собираясь ко сну, мы не раздевались, а наоборот, старались одеться потеплее, надевая на себя все, что можно было, вплоть до шапок и рукавиц. Утром, когда мы умывались, вода в кранах намерзала сосульками.
— Хорошо — можно не умываться, — радовались некоторые.
Ласса Салиндер возражал:
— Нет, это худо. Надо умываться. Сюда надо тащить горячей воды. — И сам же первый спешил принести из кухни ведро теплой воды и влить в длинный желоб коллективного умывальника.
Девушкам было лучше — они нынче жили в более утепленном доме под железной крышей.
Холодно, студено, хоть нос не показывай на улицу, а жизнь в техникуме шла своим чередом: учеба, подготовка к урокам, кино, вечера игр. Хороводили и плясали обычно опять же в столовой вечерами в субботу и днем в воскресенье.
Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда,
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города…
Пели под гармошку Капитоши Баринова, одетые так, будто происходило это на снегу при морозе. Но нам было весело, и мы пели с неменьшим воодушевлением:
Как родная меня мать
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала…
Некоторые плохо знали слова песен, но все равно тянули что-то во весь голос, и получалось забавно, вроде даже интереснее…
Примерно в это время произошла смена руководства педтехникума — Ивана Ивановича почему-то сняли с работы, а на место его назначили директором Исакова (имя, отчество не помню), из уральских коми. Но он проработал недолго. Завучем назначили Алексея Евгеньевича Стопкевича.
После Нового года получили возможность заниматься в кое-как достроенных классах нового здания средней школы, на нижнем этаже. Однако даже и этих аудиторий было мало. Печей еще не было, классы обогревались железными печками. На уроках студенты и преподаватели сидели в пальто и шапках и тем не менее все время мерзли. Застывали чернила, зябли руки.
— В чуме теплее при костре, — сказала однажды Шура Айваседа и пошмыгала носом: — Я уже, кажется, заболела насморком.
— И я тоже, — Гоша вынул из кармана большой носовой платок и демонстративно высморкался. Преподаватель по математике Николай Алексеевич, записывая пример на доске, оглянулся на миг, шевельнул рыжими усами:
— Ужасно. Еле держу мел — так озяб…
Все больше и больше студентов и преподавателей заболевало гриппом. Классы редели.
Как-то на уроке мы сидели всего вчетвером: я, Леня Киселев, Лена Хатанзеева и Нюра Айваседа, черноглазая, вертлявая девчонка. Алексей Евгеньевич проводил с нами уже третий урок подряд, заменяя заболевших преподавателей. Мы повторяли пройденное.
Только закончился урок, как за дощатой перегородкой, в учительской, зазвенел телефон. Алексей Евгеньевич вышел, но скоро появился в дверях:
— Истомин, тебя зовут к телефону. Из редакции кто-то…
Я удивился и в недоумении заковылял неохотно к аппарату, висящему на стене. Оказалось, звонит сам редактор окружной газеты «Няръяна Нгэрм» («Красный Север»). Он поздоровался со мной вежливо, сказал, что слышал о моих литературных увлечениях, и спросил, нет ли у меня собственного стихотворения об оленях или оленеводах.
— Нет, — ответил я и стал чувствовать, что краснею, словно виноват в этом.
— В марте состоится окружной слет лучших оленеводов, — продолжал редактор. — Очень хотелось бы опубликовать в те дни что-нибудь об олене. Может, подумаешь, напишешь? Времени еще много…
Меня бросило в жар: «Опубликовать мой стих в газете? Это же здорово!»
— Хорошо, попробую… — пообещал я дрогнувшим голосом.
Алексей Евгеньевич, узнав суть разговора, обрадовался не меньше.
— Чудесно, — похлопал он меня по плечу. — Просят — попробуй. Не каждому такая честь. Авось, появится твой стих в печати. Радуюсь заранее…
Ребята в классе тоже возликовали:
— У нас свой поэт! Качать его!..
Я — отбиваться:
— Культю ушибете… Да и не сочинил еще…
А тут вскоре — новая беда: на весь педтехникум наложили карантин — вспыхнула эпидемия ангины, появились заболевания свинкой. Некому стало учиться, учить, готовить еду, ухаживать за больными. Начиная с директора и кончая поварихой все лежали в постели с температурой. Только я, Иван Вануйто и Федя Янгасов каким-то чудом никак не поддавались болезням. Но от этого нам было не легче, приходилось все делать самим: Иван и Федя закупали продукты, кололи дрова, топили печи и помогали какой-то старухе готовить еду. Я по предписанию врача измерял больным температуру, подносил лекарства, подавал пить. Словом, делал то, что мог на костылях.
Однако я не забывал о своем обещании редактору — в каждую минуту, сочиняя, «мудрил» над стихом об олене. В конце концов я написал стих и, не имея возможности показать его предварительно нашему болеющему преподавателю по литературе, отправил с Федей в редакцию.