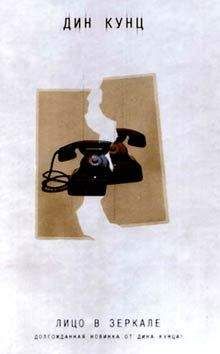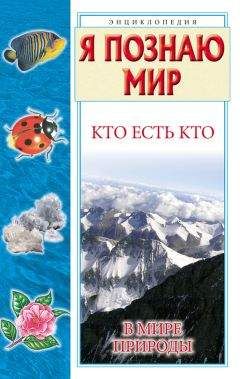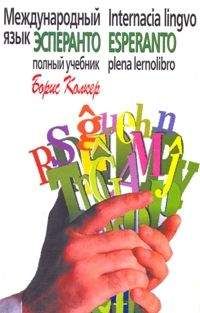Иван Истомин - Первые ласточки

Обзор книги Иван Истомин - Первые ласточки
Иван Григорьевич Истомин
Первые ласточки
Том 2
ВСТАНЬ-ТРАВА
Роман
Глава 1
Весть
Приполярье.
Лунная ночь.
Тускло светятся звезды.
Завывает лютый северный ветер.
— Кыш-ш! Кыш-ш… — каюр[1] сипло кричал на шестерку оленей, отгоняя тягучий сон.
Олени едва трусили, поводя боками, выпучив глаза и высунув языки чуть не до снега — отмахали без остановок около двухсот верст из Обдорска в село Мужи. Немного осталось до селения — в морозном, густом тумане вроде завиднелись огни.
Каюр в малице[2] и поверх нее в гусе[3] шерстью наружу, обут в тройные кисы — пимы из оленьего меха. И весь закуржавел, не видно лица, отороченного пухлой снежной бахромой. Продрог он до мозга костей на пронизывающем насквозь студеном ветру. И хочется ему спать. Но нужно увидеть хоть одного человека из села и доложить, а потом…
— Кыш-ш!.. — Каюр затянул бессловесную мелодию то ли по-зырянски, то ли по-хантыйски, то ли по-ненецки. Такую печальную, что сам заплакал и долго всхлипывал, смахивая слезы меховой рукавицей. Уже стало видно село, менее затуманенное, освещенное луной. Олени шли кое-как шагом, то и дело спотыкаясь. И наконец остановились. Два оленя осели в снег. Каюр тыкая их хореем,[4] шикал, но ничего не смог добиться. Решил отдых дать хоть недолгий. Потом снова вся упряжка потянула тяжким шагом. Каюр не гнал их — дотащат.
2В полутемной комнате горит увернутая лампа.
— Пи-ить…
Илька раскидался в жару. На лбу высохшая тряпка. Дышит часто. Бредит. И видит Илька, будто стал здоровым — руки и ноги двигаются, не опутаны хворью. И снится, что он летает. Не ходит — не помнит, как ходить, с трех лет отказали ему ноги. Он летает, летает легко, словно обская чайка. Как весело и радостно! Только хочется пить, но он не может сделать и глотка, хотя кругом вода…
— Пи-ить… — просит Илька неслышным голосом и видит себя среди цветов, мокрых от росы. Вспомнился Вотся-Горт, когда мама купала его в росе. Приговаривала ласково: «Еще, еще, мой заинька, мой маленький сыночек! Роса — травяная слеза. Чистая, радостная. Самая для тебя, для несчастного, пользительная. Особливо со цветочков душистых-запашистых. Вон сколько их, ясных слезинок-бусинок, в синих колокольчиках! Все их выльем-вытрясем на тебя!» Илька видит мокрые цветы, но лишь облизывает губы — сном не утолишь жажду. Ох, как пить хочется! Ну, мама же! Почему ты не слышишь?
И Илька плачет вслух, громче:
— Пи-ить!.. Пить!..
Елення испуганно вскакивает с кровати, прибавляет огонь в лампе, берет со стола кружку и спешит к Ильке, поит его.
— Родной мой. Долго звал, поди… И весь раскрылся…
Она поправила одеяло, пощупала тряпку — совсем сухая.
А Илька со слезами:
— Я звал, звал тебя снять меня с крыши, а ты не идешь. Почему есть лестницы лазить вверх, а спуститься — нет? Гы-ы-ы…
— Вот беда-то, — мать приложила мокрую тряпку. — Жар-то какой…
3В эту лунную, трескучую морозную ночь по безлюдной улице спешил куда-то человек в толстой малице и подшитых валенках, а не в обычных для этого края мягких меховых кисах. «Вжик-скрип, скрип-вжик…» — раздавалось в студеном воздухе. Он, как пьяный, шатался и что-то бормотал неясное и темное.
Вжик-скрип, скрип-вжик — морозно взвизгивает снег под его валенками. Временами председатель сельсовета Роман Иванович прикладывает к щеке теплую рукавицу и смахивает слезы. Он прозван в народе Куш-Юром, Гологоловым, за голую, как яйцо, голову, обожженную на барже смерти. Сгорели в полыхающей барже его друзья-товарищи, пали под свинцовым дождем те, кто бросился в реку, а Куш-Юр спасся. В кандалах, обезумевший от бессилия, бросился Роман в студеную осеннюю Обь и, уцепившись за корягу, доплыл до берега. И с той кровавой ночи не угасает в его сердце ненависть к врагам трудового народа и вера в свое революционное дело. А то, что Куш-Юром зовут, не велика беда, здесь у каждого зырянина прозвище. Куш-Юром прозвали, стало быть, признали своим.
Куш-Юр повернул к крыльцу Варов-Гриша — Гриша-Балагура, — отряхнул от снега валенки и отворил дверь.
— Гм, гм! — кашлянув, Куш-Юр перешагнул высокий порог. В тусклом свете различил лежащих на полу людей, видно, проезжих. Потоптался и осторожно, чтобы не наступить на спящих, прошел возле печи. «Спят!» — тихо пробормотал Куш-Юр, и половица под ним громко и протяжно застонала.
За пологом резко скрипнула кровать.
— Это я, Роман, председатель. Срочно надо Григория… Да и всех вас тоже… — Он прошагнул в комнату и, шумно передвинув стул, присел. От скрипа завозились ребятишки. «Разбудил!» — упрекнул себя Куш-Юр и негромко позвал: — Вставай, Григорий.
Заспанный Гриш высунулся из-за полога. Куш-Юр, стряхнув ладонью пот с лица, извлек из-под малицы листок бумаги.
— Здравствуй… Что стряслось-случилось?.. — хрипло спросил Гриш.
— Умер!.. — сдавленно выкрикнул Куш-Юр.
— Кто, что?! — Босой Гриш рывком сел на лавку. — Кто такой умер?
— Ленин умер, — проглотил слезы Куш-Юр. — Вчера вечером. — Куш-Юр шелестнул бумагой. — В шесть часов пятьдесят минут…
У Гриша в глазах потекло лицо Куш-Юра, как отражение в неспокойной воде…
Зашевелились люди в соседней комнате. Куш-Юр, сгорбившись, беззвучно плакал.
Встала с лавки не спящая Елення, в сарафане, в баба-юре — кокошнике и кисах. Тихо поздоровалась, прибавила огонь в лампе и занялась ребятишками, успокаивая их. Елення не узнавала прежнего Куш-Юра и, все-таки угадав, что это он, поразилась перемене в его лице… И Елення испугалась, в нее вошла томительная тревога, предчувствие страшной беды, такой страшной, от которой и смялось лицо Куш-Юра, лицо председателя Советской власти, стало оно потерянным, будто след, засыпанный снегом.
— Ну-ка. — Гриш дрожащими руками взял бумагу и долго читал, шевеля губами, хотя написано было немного. Потом отдал листок, спросил растерянно и горестно: — Как так? Как же так? Может быть, ошибка-путаница?
— Бумагу из Обдорска доставил каюр, — после долгой паузы заговорил Куш-Юр. — Надо, Григорий, делать древко. Для траурного флага.
— Как же так? А? Ленин умер, — не слушая его, отрешенно повторял Варов-Гриш.
— Для древка возьми подлиннее палку, чтоб всем был виден траурный флаг, — скорбно склонил голову председатель.
Елення, словно впервые увидела его голову в шрамах и рубцах, заплакала тихо и жалостливо. Слышались всхлипывания и во второй комнате, все еще не освещенной. У Ильки жар заметно спал, и он, лежа на боку, различал в полумраке Куш-Юра, собравшегося уходить.
— Кто помер, мама?
— Ленин… — Елення вытирала слезы передником. — Дед он тебе…
— Владимир Ильич, — добавил Куш-Юр.
Для Ильки Ленин был не дедом, а добрым, всемогущим богатырем из далеких и близких сказок — «Ленин дал!», «Ленин сделал!», «Ленин помог, не дал погибнуть!», «Отец… вождь… друг!». И то, что он умер, то, что он ушел навсегда, отнимало всю надежду на сказку.
И Илька заплакал горько и безутешно:
— Ленин… умер… Ой-о-о!
Куш-Юр взглянул на него:
— Два раза сказывал ему. И запомнил! — удивился Куш-Юр.
— Болеет вот… — Гриш натянул верхнюю рубаху и принялся обуваться. — Выживет ли, нет ли… кругом беда!..
— Да-а, плохо у нас — до сих пор нет фельдшера. — Думая о чем-то другом, Куш-Юр спрятал бумагу в рукавицу. — Многого у нас пока нету, Григорий. Но есть у нас Советская власть. Народ-ная, — повысил голос Куш-Юр. — И Ленин будет вечно жить в этой власти! Вечно!
— Он, Ленин, ранен был? — спросила негромко Елення.
— Был, — выдохнул Куш-Юр. — Отравленными пулями был изранен! Да… Надо другим передать эту горькую весть. Всем надо знать. В десять утра соберемся в Нардоме.
— Как людям сказать о такой беде? — Гриш одним взмахом набросил на себя малицу и вышел вслед за Куш-Юром.
На западной, уральской стороне в морозном тумане высоко светилась предутренняя луна. Она странно пульсировала: то раздвигалась, то вдруг обретала привычные очертания. И тогда мир являлся перед Гришем то в густом сумраке, то в ярком свете с резкими тенями. Гриш вытер рукавом мокрые глаза.
Над селом стояла хрусткая безголосая тишина, лишь ветер да шорох снега нарушали ее. И от этого душу захватила такая тоска и маета, обдало таким холодом, что Гриш, проваливаясь в снегу, заметался по двору.
— Что-то надо делать! Что-то надо делать! — лихорадочно проносилось в голове. Ему казалось: если сейчас он займется каким-то делом, то отодвинется от сердца, уйдет, может быть, надолго эта жгучая тягость. Он бесцельно метался по двору, пока не наткнулся на припорошенную снегом кучу жердей. Остановился. «Да. Древко. Нужно крепкое, высокое древко».