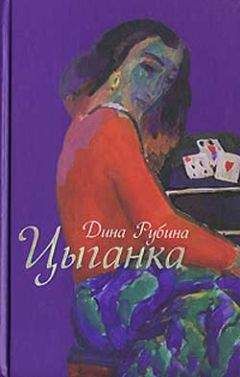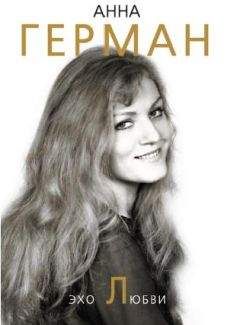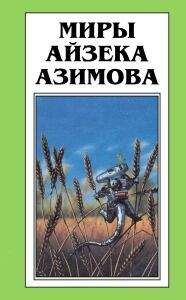Анатолий Курчаткин - Солнце сияло
Я вынужден был снова остановить ее. И снова она похихикивала, и соглашалась со мной, и обещала, что сейчас даст - нас всех проймет до кишок.
По третьему разу я решил ее не останавливать. Хотя мне хотелось, чтобы то, что мы сейчас репетировали, прозвучало достойно: я наконец справился со своими инстинктами и вытащил на белый свет то, что прежде держал в загашнике.
Я молчал, не прерывал Долли-Наташу, и вот тут заменой мне прозвучал голос Вадика:
- Ты, твою мать, кого здесь разводишь?! - заорал он, с такой силой хлопнув ладонью по струнам, что динамики отозвались густым испуганным рявком. - Тебе Санька хит отдал, ты понимаешь? Ты на него, как Матросов на амбразуру, должна лечь! Ты что, думаешь, пастью поют? Вот этим, - он выпятил вперед бедра, похлопал себя по ширинке на джинсах, - вот чем поют! Есть у тебя там шмонька? Давай докажи!
Я опасался, Долли-Наташа ударится сейчас в слезы, выскочит из студии, полетит жаловаться Ловцу, но она, неожиданно для меня, стояла, смотрела на Вадика с совершенно спокойным видом, и в глазах ее было презрительное высокомерие.
- Шмонька у меня есть, - сказала она, - да только не про твою честь.
- Не вижу, что есть! - рявкнул Вадик. - Будешь только пастью петь, никакой звездой никогда не станешь!
Козьи глаза Долли-Наташи, казавшиеся Ловцу оленьими глазами Одри Хепберн, испустили в Вадика сноп всесжигающего лазерного огня.
- Я-то буду звездой, не сомневайся. А вот где ты будешь... в какой заднице, - добавила она смачно, - большой вопрос.
И ничего, так этой их перепалкой все и закончилось, похоже, она не пожаловалась Ловцу, не потребовала от него принять к Вадику мер - во всяком случае, никаких претензий ему Ловец не предъявил, - но именно тогда, в тот холодный ветреный сырой день, словно занесенный в лето из еще далеко отстоявшей от него поздней осени, меня овеяло ветерком грядущей беды. Как если бы я прозрел трещину в фундаменте возводимого здания. Такую ничтожно малую - никому не покажешь: не увидят. А увидят - не придадут ей значения. Но для меня в ту трещину просквозила бездна.
- Замечательно, - приговаривал время от времени Ловец, - замечательно. Вот этот кусок с аэросанями - ну просто блеск! Так выразительно получилось. И эти сосны, как они качаются под ветром... А Наташу как вы сняли! Очарование, прелесть. Замечательный клип должен получиться. Лучше первого, мне кажется.
- Посмотрим, - со сдержанной скромностью отвечал я. - Цыплят по осени считают.
- Ну-у, - тянул Ловец, не отрывая глаз от экрана, - к осени мы должны уже не цыплят считать, а яйца в корзину собирать.
Мы с ним сидели у него в кабинете и смотрели на бытовом видаке исходники для будущего клипа, за который мне вскоре предстояло садиться. Это был уже второй клип. Первый я снял осенне-цветной - яркий, бурный, полыхающий красками, этот был зимний, с графически-спокойными линиями, холодно-кантиленный, сдержанный - как того требовала исполняемая Долли-Наташей песня. Тот первый я уже отмонтировал, все в нем отшлифовал, сделал несколько мастер-кассет, чтобы можно было одновременно дать и на два, и на три канала, и он ждал своего часа, чтобы замелькать на экранах.
- Отличный материал, Сань, отличный! - заключил Ловец, когда последний кадр исходников исчез с экрана и я остановил пленку. - Жалко даже, что из всего этого роскошества нужно только семь минут выбрать. Великолепный клип получится.
- Да, должно ничего получиться, - не без самодовольства согласился я.
Что говорить, мне был приятен его восторг. Я столько наполучал зуботычин в своей клиповой практике, столько унижающей ругани наслушался, что, скажи он всего одну десятую часть похвал, что расточил, я бы и то растаял.
Ловец поднялся с кресла и потер руки:
- Вот сейчас выступление в этом заведении... и все, с клубами завязываем, готовимся к концертным площадкам. Печатаем тираж диска, вы как раз клип отмонтируете, запускаем их оба на все каналы... нормально получается, будем к осени яйца собирать.
Под "заведением" Ловец имел в виду тот ночной клуб неподалеку от его магазина, от которого в небо били три столба света. С начала зимы Долли-Наташа выступала по клубам. За два месяца зимы она прошла через целый десяток клубов, и, видимо, это был верный ход. За выступление в них приходилось платить, но имя ее без всякой оплаты стало всплывать то в одном издании, то в другом, - она проявилась, и дальше уже должен был сработать эффект снежного кома. Если Ловец рассчитал скорость увеличения этого "кома" правильно, вложенные деньги начали бы к осени уже окупаться.
Выступлению в "заведении" Ловец придавал особое значение, постоянно говорил о нем, - и все в итоге, вся группа, воспринимали выступление там как взятие некоей высоты, после овладения которой можно будет считать сражение выигранным.
Тогда мне эта электризация атмосферы вокруг предстоящего выступления была непонятна. По мне, это было точно такое же выступление, как прочие. Нет-нет, совсем не такое, отвечал Ловец, когда я высказывал недоумение по поводу происходящей ажитации, но объяснять ничего не объяснял.
Долли-Наташа была заведена больше всех. Будь она лошадью, я бы сказал, что в ожидании выхода на эстрадную площадку "заведения" она исступленно била копытом и грызла удила. Но так как она все же была человеком, то физически ее напряжение выражалось в том, что на репетициях она то и дело по всякому поводу срывалась в крик и еще постоянно всех поддевала, подначивала, и довольно жестоко.
В день выступления в "заведении" мы увиделись с Николаем, с которым не встречались уже пропасть времени. Ловец считал необходимым снять выступление на видео, добился у клуба разрешения на съемку, и, естественно, вести съемку должен был я. Но накануне назначенного дня слег в гриппе клавишник, заменить его, кроме как мной, больше было некем, и вместо себя на камеру я позвал Николая.
Встреча наша произошла около заднего входа в клуб, где, приплясывая на ветру и морозе, мне пришлось принимать съемочную бригаду. Рабочие с краном уже приехали, приехали осветители со всеми своими лампами, стойками и кабелями, прибыл вместе с ними звуковик, а Николая все не было, и я даже начал психовать. Но наконец из дверей подкатившей машины вслед за тем, как на землю выступила изнутри нога выходящего человека, появилась и рука с камерой.
Не откладывая в долгий ящик, я достал из кошелька стодолларовую купюру - из числа тех, что вручил мне Ловец для расчета со съемочной бригадой, - и отдал Николаю:
- Твой гонорар, чтоб после съемок друг за другом не бегать.
- Извини, возьму! - проговорил Николай, показав тем самым, что помнит о долге, но отдать его - это пока нет. - Не могу не взять. - Он забрался рукой за пазуху и засунул там деньги в какой-то карман. - В Чечню снова через два дня уезжаю, - произнес он затем - так, словно это известие должно было что-то мне объяснить.
Уже несколько месяцев, как в Чечне возобновились военные действия, вновь по телевизору в новостях каждый день сообщали о боях, убитых, раненых, подбитой военной технике, и все это - на фоне отснятых чеченских кадров: тех самых обездвиженных бронетранспортеров, сгоревших машин, лежащих трупов...
- Посылают? - зачем-то уточнил я.
- Чего ж не поехать, - сказал Николай. - Денег подзаработаю. Командировка, военные действия - по-человечески хотя бы платят. Долг тебе верну.
Невольно я почувствовал в себе нечто, похожее на радостное довольство.
- Вернешь - не откажусь, - сказал я.
Как мы выступили, что за прием нам оказали - вспоминать все это неинтересно. Все это неважно; важно ведь то, что прорастает и дает плоды, а то, что умерло в земле или проблагоухало пустоцветом, - это не просто несущественно, это изначально обречено на забвение. То, что произошло уже после самого выступления - вот что принесло плод, да еще такой увесистый хватило наесться всем.
- Потом, когда все закончится, подойдите к нам, - попросил меня Ловец перед выступлением. - Пусть ребята там все увозят, а вы останьтесь. Посидим вчетвером: мы и вы с Наташей.
Естественно, я не возражал. Мне и без того было до смерти любопытно, что это нынче за тип рядом с Ловцом. Я его про себя уже назвал ряженым. Он выглядел так, словно залетел в наши дни прямиком из какой-нибудь пьесы Островского про купцов первой гильдии. Высокий, фактуристый, с изрядным животом, заключенным в красную жилетку со множеством мелконьких перламутровых пуговичек, в распахнутом черном костюме из льющегося блеском какого-то атласного материала, со свежеподстриженной, свежеподбритой прихотливо-барочной формы бородкой, похожей на заботливо взращенный волосяной куст, но главное - выражение его румяно-свежего, из тех, про которые говорят "кровь с молоком", несколько обвисшего на щеках упитанного сорокалетнего лица: это было выражение полного, безграничного самодовольства, абсолютного самоупоения, ощущения такой денежной бездны под собой, которая самортизирует все, что может произойти в жизни дурного. И Ловец, которого я всегда знал как человека исключительной внутренней независимости, был в поведении с ним не то чтобы искателен и подобострастен, но проявлял ясно заметную предупредительность и особую почтительность.