Максим Горький - Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907
— Так — ради этой жизни — я на все пойду…
Его лицо вздрогнуло, из глаз текли слезы одна за другой, крупные и тяжелые.
Павел поднял голову и смотрел на него бледный, широко раскрыв глаза, мать привстала со стула, чувствуя, как растет, надвигается на нее темная тревога.
— Что с тобой, Андрей? — тихо спросил Павел.
Хохол тряхнул головой, вытянулся, как струна, и сказал, глядя на мать:
— Я видел… Знаю…
Она встала, быстро подошла к нему, схватила руки его — он пробовал выдернуть правую, но она цепко держалась за нее и шептала горячим шепотом:
— Голубчик мой, тише! Родной мой…
— Подождите! — глухо бормотал хохол. — Я скажу вам, как оно было…
— Не надо! — шептала она, со слезами глядя на него. — Не надо, Андрюша…
Павел медленно подошел, глядя на товарища влажными глазами. Был он бледен и, усмехаясь, сказал негромко, медленно:
— Мать боится, что это ты…
— Я — не боюсь! Не верю! Видела бы — не поверила!
— Подождите! — говорил хохол, не глядя на них, мотая головой и все освобождая руку. — Это не я, — но я мог не позволить…
— Оставь, Андрей! — сказал Павел.
Одной рукой сжимая его руку, он положил другую на плечо хохла, как бы желая остановить дрожь в его высоком теле. Хохол наклонил к ним голову и тихо, прерывисто заговорил:
— Я не хотел этого, ты ведь знаешь, Павел. Случилось так: когда ты ушел вперед, а я остановился на углу с Драгуновым — Исай вышел из-за утла, — стал в стороне. Смотрит на нас, усмехается… Драгунов сказал: «Видишь? Это он за мной следит, всю ночь. Я изобью его». И ушел, — я думал — домой… А Исай подошел ко мне…
Хохол вздохнул.
— Никто меня не обижал так скверно, как он, собака.
Мать молча тянула его за руку к столу, и наконец ей удалось посадить Андрея на стул. А сама она села рядом с ним плечо к плечу. Павел же стоял перед ним, угрюмо пощипывая бороду.
— Он говорил мне, что всех нас знают, все мы у жандармов на счету и что выловят всех перед Маем. Я не отвечал, смеялся, а сердце закипало. Он стал говорить, что я умный парень и не надо мне идти таким путем, а лучше…
Он остановился, отер лицо левой рукой, глаза его сухо сверкнули.
— Я понимаю! — сказал Павел.
— Лучше, говорит, поступить на службу закона, а?
Хохол взмахнул рукой и потряс сжатым кулаком.
— Закона, — проклятая его душа! — сквозь зубы сказал он. — Лучше бы он по щеке меня ударил… легче было бы мне, — и ему, может быть. Но так, когда он плюнул в сердце мне вонючей слюной своей, я не стерпел.
Андрей судорожно выдернул свою руку из руки Павла и глуше, с отвращением говорил:
— Я ударил его по щеке и пошел. Слышу — сзади Драгунов тихо так говорит: «Попался?» Он стоял за углом, должно быть…
Помолчав, хохол сказал:
— Я не обернулся, хотя чувствовал… Слышал удар… Иду себе, спокойно, как будто жабу пнул ногой. Встал на работу, кричат: «Исая убили!» Не верилось. Но рука заныла, — неловко мне владеть ею, — не больно, но как будто короче стала она…
Он искоса взглянул на руку и сказал:
— Всю жизнь, наверно, не смою я теперь поганого пятна этого…
— Было бы сердце твое чисто, голубчик мой! — тихо сказала мать.
— Я не виню себя — нет! — твердо сказал хохол. — Но противно же мне это! Лишнее это для меня.
— Я плохо понимаю тебя! — сказал Павел, пожав плечами. — Убил — не ты, но если б даже…
— Брат, знать, что убивают, и не помешать…
Павел твердо сказал:
— Я этого совсем не понимаю…
И, подумав, прибавил:
— То есть понять могу, но почувствовать — нет.
Запел гудок. Хохол склонил голову набок, прослушал властный рев и, встряхнувшись, сказал:
— Не пойду работать…
— Я тоже, — отозвался Павел.
— Пойду в баню! — усмехаясь, проговорил хохол и быстро, молча собравшись, ушел, угрюмый.
Мать, проводив его сострадательным взглядом, сказала сыну:
— Как хочешь, Паша! Знаю — грешно убить человека, — а не считаю никого виноватым. Жалко Исая, такой он гвоздик маленький, поглядела я на него, вспомнила, как он грозился повесить тебя, — и ни злобы к нему, ни радости, что помер он. Просто жалко стало. А теперь — даже и не жалко…
Она замолчала, подумала и, удивленно улыбаясь, заметила:
— Господи Иисусе, — слышишь, Паша, что говорю я?..
Павел, должно быть, не слышал. Медленно расхаживая по комнате, опустив голову, он вдумчиво и хмуро сказал:
— Вот она, жизнь! Видишь, как поставлены люди друг против друга? Не хочешь, а — бей! И кого? Такого же бесправного человека. Он еще несчастнее тебя, потому что — глуп. Полиция, жандармы, шпионы — все это наши враги, — а все они такие же люди, как мы, так же сосут из них кровь и так же не считают их за людей. Всё — так же! А вот поставили людей одних против других, ослепили глупостью и страхом, всех связали по рукам и по ногам, стиснули и сосут их, давят и бьют одних другими. Обратили людей в ружья, в палки, в камни и говорят: «Это государство!..»
Он подошел ближе к матери.
— Это — преступление, мать! Гнуснейшее убийство миллионов людей, убийство душ… Понимаешь, — душу убивают. Видишь разницу между нами и ими — ударил человек, и ему противно, стыдно, больно. Противно, главное! А те — убивают тысячами спокойно, без жалости, без содрогания сердца, с удовольствием убивают! И только для того давят насмерть всех и все, чтобы сохранить серебро, золото, ничтожные бумажки, всю эту жалкую дрянь, которая дает им власть над людьми. Подумай — не себя оберегают люди, защищаясь убийством народа, искажая души людей, не ради себя делают это, — ради имущества своего. Не изнутри берегут себя, а извне…
Он взял руки ее, наклонился и, встряхивая их, сказал:
— Если бы ты почувствовала всю эту мерзость и позорную гниль — ты поняла бы нашу правду, увидала бы, как она велика.
Мать поднялась взволнованная, полная желания слить свое сердце с сердцем сына в один огонь.
— Подожди, Паша, подожди! — задыхаясь, пробормотала она. — Я — чувствую, — подожди!..
XXVВ сенях кто-то громко завозился. Они оба, вздрогнув, взглянули друг на друга.
Дверь отворилась медленно, и в нее грузно вошел Рыбин.
— Вот! — подняв голову и улыбаясь, сказал он. — Нашего Фому тянет ко всему — ко хлебу, к вину, кланяйтесь ему!..
Он был одет в полушубок, залитый дегтем, в лапти, за поясом у него торчали черные рукавицы и на голове мохнатая шапка.
— Здоровы ли? Выпустили тебя, Павел? Так. Каково живешь, Ниловна? — Он широко улыбался, показывая белые зубы, голос его звучал мягче, чем раньше, лицо еще гуще заросло бородой.
Мать обрадовалась, подошла к нему, жала его большую, черную руку и, вдыхая здоровый, крепкий запах дегтя, говорила:
— Ах, ты… ну, я рада!..
Павел улыбался, разглядывая Рыбина.
— Хорош мужичок!
Медленно раздеваясь, Рыбин говорил:
— Да, опять мужиком заделался, вы в господа помаленьку выходите, а я — назад обращаюсь… вот!
Одергивая пестрядинную рубаху, он прошел в комнату, окинул ее внимательным взглядом и заявил:
— Имущества не прибавилось у вас, видать, а книжек больше стало, — так! Ну, сказывайте, как дела?
Он сел, широко расставив ноги, уперся в колена ладонями вопросительно ощупывая Павла темными глазами, добродушие улыбаясь, ждал ответа.
— Дела идут бойко! — сказал Павел.
— Пашем да сеем, хвастать не умеем, а урожай соберем сварим бражку, ляжем в лежку — так? — балагурил Рыбин.
— Как вы живете, Михайло Иваныч? — спросил Павел, садясь против него.
— Ничего. Ладно живу. В Едильгееве приостановился, слыхали — Едильгеево? Хорошее село. Две ярмарки в году, жителей боле двух тысяч, — злой народ! Земли нет, в уделе арендуют, плохая землишка. Порядился я в батраки к одному мироеду — там их как мух на мертвом теле. Деготь гоним, уголь жгем. Получаю за работу вчетверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чем здесь, — вот! Семеро нас у него, у мироеда. Ничего, — народ всё молодой, все тамошние, кроме меня, — грамотные всё. Один парень — Ефим, такой ярый, беда!
— Вы что же, беседуете с ними? — спросил Павел оживленно.
— Не молчу. У меня с собой захвачены все здешние листочки — тридцать четыре их. Но я больше Библией действую, там есть что взять, книга толстая, казенная, синод печатал, верить можно!
Он подмигнул Павлу и, усмехаясь, продолжал:
— Только этого мало. Я к тебе за книжками явился. Мы тут вдвоем, Ефим этот со мной, — деготь возили, ну, дали крюку, заехали к тебе! Ты меня снабди книжками, покуда Ефим не пришел, — ему лишнее много знать…
Мать смотрела на Рыбина, и ей казалось, что вместе с пиджаком он снял с себя еще что-то. Стал менее солиден, и глаза у него смотрели хитрее, не так открыто, как раньше.
— Мама, — сказал Павел, — вы сходите, принесите книг. Там знают, что дать. Скажете — для деревни.
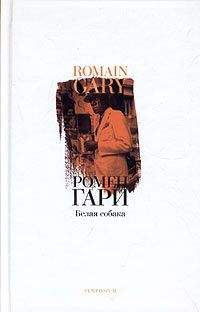
![Гилберт Честертон - Вещая собака [=Собака-оракул]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
