Максим Горький - Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907
Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали, и крепко закрыла глаза, чтобы не плакали они.
Павел поднял руку, хотел что-то сказать, но мать взяла его за другую руку и, потянув ее вниз, прошептала:
— Не мешай ему…
— Знаете? — сказал хохол, стоя в двери. — Много горя впереди у людей, много еще крови выжмут из них, но все это, все горе и кровь моя, — малая цена за то, что уже есть в груди у меня, в мозгу моем… Я уже богат, как звезда лучами, — я все снесу, все вытерплю, — потому что есть во мне радость, которой никто, ничто, никогда не убьет! В этой радости — сила!
Пили чай, сидели за столом до полуночи, ведя задушевную беседу о жизни, о людях, о будущем. И, когда мысль была ясна ей, мать, вздохнув, брала из прошлого своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла мысль.
В теплом потоке беседы страх ее растаял, теперь она чувствовала себя так, как в тот день, когда отец ее сурово сказал ей:
— Нечего рожу кривить! Нашелся дурак, берет тебя замуж — иди! Все девки замуж выходят, все бабы детей родят, всем родителям дети — горе! Ты что — не человек?
После этих слов она увидела перед собой неизбежную тропу, которая безответно тянулась вокруг пустого, темного места. И неизбежность идти этой тропой наполнила ее грудь слепым покоем. Так и теперь. Но, чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила кому-то: «Нате, возьмите!» Это облегчало тихую боль ее сердца, которая, вздрагивая, пела в груди ее, как тугая струна.
И в глубине ее души, взволнованной печалью ожидания, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нее не возьмут, не вырвут! Что-то останется…
XXIVРано утром, едва только Павел и Андрей ушли, в окно тревожно постучала Корсунова и торопливо крикнула:
— Исая убили! Идем смотреть…
Мать вздрогнула, в уме ее искрой мелькнуло имя убийцы.
— Кто? — коротко спросила она, накидывая на плечи шаль.
— Он не сидит там, над Исаем-то, кокнул да и ушел! — ответила Марья.
На улице она сказала:
— Теперь опять начнут рыться, виноватого искать. Хорошо, что твои ночью дома были, — я этому свидетельница. После полночи мимо шла, в окно к вам заглянула, все вы за столом сидели…
— Что ты, Марья? Разве на них можно подумать? — испуганно воскликнула мать.
— А кто его убил? Уж наверно, ваши! — убежденно сказала Корсунова. — Известно всем, что выслеживал он их…
Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку к груди.
— Да ты что? Ты не бойся! Поделом вору и мука! Идем скорее, а то увезут его!..
Мать пошатывала тяжелая мысль о Весовщикове.
«Вот, дошел!» — тупо думала она.
Недалеко от стен фабрики, на месте недавно сгоревшего дома, растаптывая ногами угли и вздымая пепел, стояла толпа народа и гудела, точно рой шмелей. Было много женщин, еще больше детей, лавочники, половые из трактира, полицейские и жандарм Петлин, высокий старик с пушистой серебряной бородой, с медалями на груди.
Исай полулежал на земле, прислонясь спиной к обгорелым бревнам и свесив обнаженную голову на правое плечо. Правая рука была засунута в карман брюк, а пальцами левой он вцепился в рыхлую землю.
Мать взглянула в лицо ему — один глаз Исая тускло смотрел в шапку, лежавшую между устало раскинутых ног, рот был изумленно полуоткрыт, его рыжая бородка торчала вбок. Худое тело с острой головой и костлявым лицом в веснушках стало еще меньше, сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнув. Живой, он был противен ей, теперь будил тихую жалость.
— Крови нет! — заметил кто-то вполголоса. — Видно, кулаком стукнули…
Злой голос громко произнес:
— Заткнули рот ябеднику…
Жандарм встрепенулся и, раздвигая руками женщин, угрожающе спросил:
— Это кто рассуждает, а?
Люди рассыпались под его толчками. Некоторые быстро побежали прочь. Кто-то засмеялся злорадным смехом. Мать пошла домой.
«Никто не жалеет!» — думала она. А перед нею стояла, точно тень, широкая фигура Николая, его узкие глаза смотрели холодно, жестко, и правая рука качалась, точно он ушиб ее…
Когда сын и Андреи пришли: обедать, она прежде всего спросила их:
— Ну, что? Никого не арестовали — за Исая?
— Не слышно! — отозвался хохол.
Она видела, что они оба подавлены.
— О Николае ничего не говорят? — тихо осведомилась мать.
Строгие глаза сына остановились на ее лице, и он внятно сказал:
— Не говорят. И едва ли думают. Его нет. Он вчера в полдень уехал на реку и еще не вернулся. Я спрашивал о нем…
— Ну, слава богу! — облегченно вздохнув, сказала мать. — Слава богу!
Хохол взглянул на нее и опустил голову.
— Лежит он, — задумчиво рассказывала мать, — и точно удивляется, — такое у него лицо. И никто его не жалеет, никто добрым словом не прикрыл его. Маленький такой, невидный. Точно обломок, — отломился от чего-то, упал и лежит…
За обедом Павел вдруг бросил ложку и воскликнул:
— Этого я не понимаю!
— Чего? — спросил хохол.
— Убить животное только потому, что надо есть, — и это уже скверно. Убить зверя, хищника… это понятно! Я сам мог бы убить человека, который стал зверем для людей. Но убить такого жалкого — как могла размахнуться рука?..
Хохол пожал плечами. Потом сказал:
— Он был вреден не меньше зверя. Комар выпьет немножко нашей крови — мы бьем! — добавил хохол.
— Ну да! Я не про то… Я говорю — противно!
— Что поделаешь? — отозвался Андрей, снова пожимая плечами.
— Ты мог бы убить такого? — задумчиво спросил Павел после долгого молчанья.
Хохол посмотрел на него своими круглыми глазами, мельком взглянул на мать и с грустью, но твердо ответил:
— За товарищей, за дело — я все могу! И убью. Хоть сына…
— Ой, Андрюша! — тихо воскликнула мать.
Он улыбнулся ей и сказал:
— Нельзя иначе! Такая жизнь!..
— Да-а!.. — медленно протянул Павел. — Такая жизнь…
Внезапно возбужденный, повинуясь какому-то толчку изнутри, Андрей встал, взмахнул руками и заговорил:
— Что вы сделаете? Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступало время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги, чтобы купить на них покой или почет себе. Если на пути честных стоит Иуда, ждет их предать — я буду сам Иуда, когда не уничтожу его! Я не имею права? А они, хозяева наши, — они имеют право держать солдат и палачей, публичные дома и тюрьмы, каторгу и все это, поганое, что охраняет их покой, их уют? Порой мне приходится брать в руки их палку, — что ж делать? Я возьму, не откажусь. Они нас убивают десятками и сотнями, — это дает мне право поднять руку и опустить ее на одну из вражьих голов, на врага, который ближе других подошел ко мне и вреднее других для дела моей жизни. Такая жизнь. Против нее я и иду, ее я и не хочу. Я знаю, — их кровью ничего не создается, она не плодотворна!.. Хорошо растет правда, когда наша кровь кропит землю частым дождем, а их, гнилая, пропадает без следа, я это знаю! Но я приму грех на себя, убью, если увижу — надо! Я ведь только за себя говорю. Мой грех со мной умрет, он не ляжет пятном на будущее, никого не замарает он, кроме меня, — никого!
Он ходил по комнате, взмахивая рукой перед своим лицом, и как бы рубил что-то в воздухе, отсекал от самого себя. Мать смотрела на него с грустью и тревогой, чувствуя, что в нем надломилось что-то, больно ему. Темные, опасные мысли об убийстве оставили ее: «Если убил не Весовщиков, никто из товарищей Павла не мог сделать этого», — думала она. Павел, опустив голову, слушал хохла, а тот настойчиво и сильно говорил:
— По дороге вперед и против самого себя идти приходится. Надо уметь все отдать, все сердце. Жизнь отдать, умереть за дело — это просто! Отдай — больше, и то, что тебе дороже твоей жизни, — отдай, — тогда сильно взрастет и самое дорогое твое — правда твоя!..
Он остановился среди комнаты, побледневший, полузакрыв глаза, торжественно обещая, проговорил, подняв руку:
— Я знаю — будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда пред другим! Будут ходить по земле люди вольные, великие свободой своей, все пойдут с открытыми сердцами, сердце каждого чисто будет от зависти, и беззлобны будут все. Тогда не жизнь будет, а — служение человеку, образ его вознесется высоко; для свободных — все высоты достигаемы! Тогда будут жить в правде и свободе для красоты, и лучшими будут считаться те, которые шире обнимут сердцем мир, которые глубже полюбят его, лучшими будут свободнейшие — в них наибольше красоты! Велики будут люди этой жизни…
Он замолчал, выпрямился, сказал гулко, всею грудью:
— Так — ради этой жизни — я на все пойду…
Его лицо вздрогнуло, из глаз текли слезы одна за другой, крупные и тяжелые.
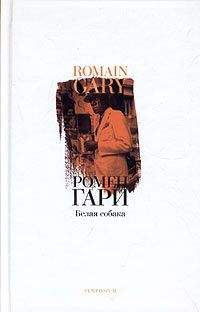
![Гилберт Честертон - Вещая собака [=Собака-оракул]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
