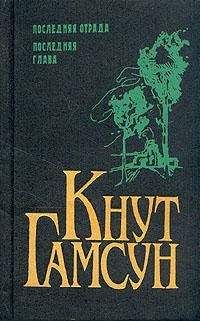Алла Демидова - Бегущая строка памяти
Начиналось, впрочем, радужно. В Афинах открывался огромный концертный зал с несколькими сценами. Открывался он фестивалем под названием «Электра» — там были и балет, и опера, а «Электру» Софокла Любимову предложил поставить греческий миллионер Ламбракис, который финансировал весь этот фестиваль. Григорович, например, показывал свой балет «Пилад», венская опера — «Электру» Рихарда Штрауса.
Любимов пошел путем Брехта, путем «Доброго человека из Сезуана» — искал выразительности в крике. Действительно, в крике трудно обмануть, крик надо просто окрасить, это уже не «ползучий реализм», не быт. Я заставляла себя делать все, что требовал режиссер, играла на крайних верхних точках, на крике, на эмоциональном самовыявлении. В результате заболела, репетировала и играла с воспалением легких. И каждый раз после спектакля заболевала.
Я поняла, что играю не по ремеслу (то есть не по искусству актера), а за счет собственной энергии, растрачивая ее, а это неверно и недопустимо. Я пропустила звено в профессии — играла не образ, а себя в предлагаемых обстоятельствах. Но мои чувства — это не чувства Электры.
Тем не менее, когда мы сыграли «Электру» в Афинах, Ламбракис — продюсер спектакля — пригласил на ужин Любимова и меня, снова предлагая свою денежную поддержку, чтобы продолжать работу вместе. Кто-то предложил «Мамашу Кураж», но я Брехта не люблю, отказалась. Тогда возникла «Медея» Еврипида, но там плохо переведены хоры — они непонятны для нас, нынешних. Любимов заказал перевод Иосифу Бродскому, тот сделал прекрасные переводы хоров.
Я увидела макет Давида Боровского — парафраз войны в Чечне, бруствер из мешков с песком, защитно-полевые комбинезоны, каски. Так мне все это было не по душе! В это время греческий режиссер Теодор Терзопулос предложил мне «Медею» в современной адаптации Хайнера Мюллера — она называлась «Медея-материал». Я ушла из спектакля «Таганки», стала работать с Терзопулосом. Об уходе не жалела, хотя потом в их спектакле были интересные вещи: хор а capella, старые греческие черные платья у женщин, Медея говорила с грузинским акцентом… Но остальное — военные костюмы, политические намеки и аллюзии — это мне не нравилось. Тем более что мысль о расставании зрела у меня уже в 70-е годы, а на «Электре», когда поняла, что это будет повторение ранней «Таганки», я только укрепилась в своем желании.
Опыт Федры, Электры, столь тяжелый, и особенно опыт следующей работы с Терзопулосом — Медеи, на сей раз положительный, — то есть своего рода погружение в античную трагедию, открыл для меня первостепенную важность актерской техники. Я говорю о той индивидуальной технике, внутренней и внешней, которую, испытав в ней потребность, должен разработать сам актер для себя, чтобы воздействовать на зрителя. Ведь та же история театра свидетельствует, что успех приходит к актеру и имя его вписывается в анналы только при резкой смене техники, при явной новизне, которая идет вразрез с общепринятым.
Например. Был в начале XIX века красавец Каратыгин с величавой осанкой, с царственным жестом и прекрасной дикцией, и вдруг явился Мочалов абсолютная противоположность, расхристанный, играл на «нутре», неровный, нервный — и стал кумиром публики. После вышел на сцену Щепкин с его мягкой и человечной бытовой манерой. Ну и так далее…
Собственно, актерская техника меня всегда интересовала. Я давно стала понимать, что надо самой «изобретать велосипеды» — самой расшибать лоб об очевидные истины.
Подсознательно это возникло у меня еще во времена «Гамлета» с Высоцким. У Высоцкого сильная энергия шла от наркотиков, но я их употреблять не могла из-за слабого здоровья и от всегдашнего отвращения к внешнему насилию.
Тогда же я стала думать: что происходит, когда хорошо играешь? Переплетенье «ты — образ» и «ты — наблюдающий со стороны» постоянно раздваивается и переплетается вновь. Игра удается, когда ты очень сконцентрирован и когда тебе ничто не мешает — ни внутренние болезни, ни закулисные шумы, ни технические накладки (они раньше мне очень мешали).
И вот я стала самостоятельно разбивать роль на мыслеобразы, на видения. Особенно — в стихах. Когда читаешь, ритм должен жить в тебе подсознательно, а ты должен видеть «живые» картинки. Они возникают внутри, но ты должен их «отслоить» для зрителя и видеть в конце зрительного зала. Потом я стала эти картинки «отслаивать» в ролях, потом поняла, что их надо переводить на образы, а после — на цвет. И даже проверила это с учеными: если переводить текст роли на цвет и абстрактные образы — возникает наиболее сильная энергия.
В то время «Вишневый сад» шел уже на Новой сцене. Однажды я увидела, что в зале сидят люди и направляют на сцену какие-то аппараты типа мембран. Потом они пришли ко мне в гримерную и сказали, что пробуют изобрести аппарат для измерения психической энергии. Наверное, около месяца мы работали вместе. Они измеряли все мои энергетические точки до спектакля, в антракте и после. Это было похоже на кардиограмму.
Иногда спектакль шел неудачно. Помню, как на «Трех сестрах» в антракте они меня «замерили», а у Меня все энергетические точки были на нуле, то есть Дальше — смерть. Я при этом чувствовала себя опустошенной, но, сказать честно, я себя часто так чувствую. И экстрасенс Галя (они ли ее привели или она возникла сама собой?) стала меня «оживлять» — давать мне энергию. Тогда же они мне сказали, что в основном актеры «вампирят» энергию у зрителя. А кроме того, берут ее друг у друга — у того, кто сильнее.
Как-то после «Вишневого сада» я решила еще раз проверить их аппарат. Я была в очень хорошем состоянии, потому что спектакль прошел хорошо. Замерили: излучение всех моих энергетических точек было повышено. Я спросила: «Значит, я брала энергию у зрителя?» Они говорят: «Это взаимообмен».
И вот они остались в зале одни. Я начала темпераментный, со слезами кусок «О мои грехи…». Они говорят: «Нет-нет, вы у нас забираете энергию». Тогда я села в кресло и этот же монолог стала читать на мысле-образах, по своей «системе».
Я разделяла зал на три части. Правая от сцены часть зала для меня была оранжевой. Это — детство. А если образ — то цветущий сад, или расцветающая роза, или всходящий колос. Но все это — оранжевого цвета. И когда я говорила «О мое детство…» — я всегда говорила только в правую сторону, и брала оттуда энергию.
Когда я произносила «Вон покойная мама идет…» — это была у меня середина, белого цвета. Белый — цвет смерти (и королевский траур, кстати, белый). Там у меня особого образа не было, просто — белое сияние.
А левая сторона зала — там у меня сначала возникал образ болота, топи, потом он превратился просто в черный, засасывающий цвет. И это было «Гриша мой, мой мальчик… утонул…» — я представляла, что не в реке, а в болоте, и как он цеплялся руками… То есть я сначала переводила слова на образ, а потом просто на цвет.
И вот когда я стала так — с внутренней, но очень плотной партитурой мысле-образов и цветовых переходов, читать монолог о грехах, ученые сказали: «Вот-вот. Теперь вы даете энергию».
И тогда я поняла, что текст любой роли надо переводить на мыслеобразы.
В это же время мы репетировали «Федру». И я стала говорить об этом Диме Певцову и другим актерам, работавшим с нами.
С теми же учеными мы обнаружили, что я работаю анахатой (область сердца), иногда — вишутхой (область гортани. Этим центром актеры обычно не работают, это очень тонкая вибрация, которую и воспринимают только очень подготовленные зрители). Анахата — сердечная чакра — воспринимается более широко. Высоцкий работал этим центром — диафрагмой. Многие актеры работают нижней «земной» чакрой — малатхарой, которая «бьет» вниз. (Я, кстати, давным-давно замечала, что, когда актеры «жмут» голосом, у них даже попка соединяется вместе — так они подсознательно «давят» этой чакрой.) Но это грубая вибрация. И когда люди ругаются — это всегда малатхара.
И вот на репетициях «Федры» мы стали развивать верхние чакры. Ученые мне сказали, что для этого надо подсоединяться к тем же чакрам зрительного зала. Но что такое зрительный зал?! Каждый по отдельности? К каждому же не подсоединишься…
И тогда я придумала образ: в конце зала обязательно сидит Друг, которого любишь. Каждый подставляет своего Друга. Но — чтобы не было головы. Голова где-то на крыше, а ноги — где-то в земле. Нужно, чтобы сердечная чакра стала большой. И — ты соединяешься прозрачным, не стеклянным, а похожим на солнечный луч, очень сильным, все время расширяющимся «тубусом» с концом зала, с чакрой Друга.
И когда не хватает мыслеобразов, когда вдруг — пустота или что-то помешало и ты не входишь в роль, всегда надо концентрироваться на этой солнечной связи, в которой «пылится» энергия. От своей чакры — туда, в конец зала. Кстати, Высоцкий в свое время мне советовал: «Алла, играй туда, где в конце зала светится табло „Выход“.»