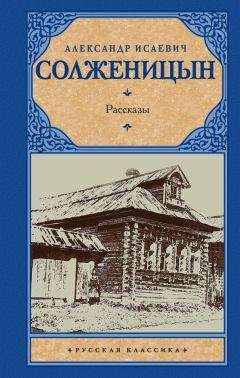Николай Чернышевский - Что делать?
— Видите, Рахметов, с каким усердием я ем, значит, хотелось; а ведь не чувствовала и про себя забыла, не про одну Машу; стало быть, я еще не такая злонамеренная преступница.
— И я не такое чудо заботливости о других, что вспомнил за вас о вашем аппетите: мне самому хотелось есть, я плохо пообедал; правда, съел столько, что другому было бы заглаза довольно на полтора обеда, но вы знаете, как я ем — за двоих мужиков.
— Ах, Рахметов, вы были добрым ангелом не для одного моего аппетита. Но зачем же вы целый день сидели, не показывая записки? Зачем вы так долго мучили меня?
— Причина очень солидная. Надобно было, чтобы другие видели, в каком вы расстройстве, чтоб известие о вашем ужасном расстройстве разнеслось для достоверности события, вас расстроившего. Ведь вы не захотели бы притворяться. Да и невозможно вполне заменить натуру ничем, натура все-таки действует гораздо убедительнее. Теперь три источника достоверности события: Маша, Мерцалова, Рахель. Мерцалова особенно важный источник, — ведь это уж на всех ваших знакомых. Я был очень рад вашей мысли послать за нею.
— Какой же вы хитрый, Рахметов!
— Да, это не глупо придумано — ждать до ночи, только не мной; это придумал Дмитрий Сергеич сам.
— Какой он добрый! — Вера Павловна вздохнула, только, по правде сказать, вздохнула не с печалью, а лишь с признательностию.
— Э, Вера Павловна, мы его еще разберем. В последнее время он, точно, обдумал все умно и поступал отлично. Но мы найдем за ним грешки, и очень крупненькие.
— Не смейте, Рахметов, так говорить о нем. Слышите, я рассержусь.
— Вы бунтовать? за это наказание. Продолжать казнить вас? ведь список ваших преступлений только еще начат.
— Казните, казните, Рахметов.
— За покорность награда. Покорность всегда награждается. У вас, конечно, найдется бутылка вина. Вам не дурно выпить. Где найти? В буфете или где в шкапе?
— В буфете.
В буфете нашлась бутылка хересу. Рахметов заставил Веру Павловну выпить две рюмки, а сам закурил сигару.
— Как жаль, что не могу и я выпить три-четыре рюмки — хотелось бы.
— Неужели хотелось бы, Рахметов?
— Завидно, Вера Павловна, завидно, — сказал он смеясь. — Человек слаб.
— Вы-то еще слаб, слава богу! Но, Рахметов, вы удивляете меня. Вы совсем не такой, как мне казалось. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? А ведь вот теперь вы милый, веселый человек.
— Вера Павловна, я исполняю теперь веселую обязанность, отчего ж мне не быть веселым? Но ведь это случай, это редкость. Вообще видишь не веселые вещи; как же тут не будешь мрачным чудовищем? Только, Вера Павловна, если уж случилось вам видеть меня в таком духе, в каком я был бы рад быть всегда, и дошло у нас до таких откровенностей, — пусть это будет секрет, что я не по своей охоте мрачное чудовище. Мне легче исполнять мою обязанность, когда не замечают, что мне самому хотелось бы не только исполнять мою обязанность, но и радоваться жизнью; теперь меня уж и не стараются развлекать, не отнимают у меня времени на отнекивание от зазывов. А чтобы вам легче было представлять меня не иначе, как мрачным чудовищем, надобно продолжать следствие о ваших преступлениях.
— Да чего ж вам больше? — вы уж и так отыскали два, бесчувственность к Маше и бесчувственность к мастерской. Я каюсь.
— Бесчувственность к Маше — только проступок, а не преступление: Маша не погибла оттого, что терла бы себе слипающиеся глаза лишний час, — напротив, она делала это с приятным чувством, что исполняет своей долг. Но за мастерскую я, действительно, хочу грызть вас.
— Да ведь уж изгрызли.
— Еще не всю, а я хочу изгрызть вас всю. Как вы могли бросать ее на погибель?
— Да ведь уж я раскаялась и не бросала же: ведь Мерцалова согласилась заменить меня.
— Мы уж говорили, что ваше намерение заменить себя ею — недостаточное извинение. Но вы этою отговоркою только уличили себя в новом преступлении. — Рахметов постепенно принимал опять серьезный, хотя и не мрачный тон. — Вы говорите, что она заменяет вас, — это решено?
— Да, — сказала Вера Павловна без прежней шутливости, уже предчувствуя, что из этого выходит действительно что-то нехорошее.
— Извольте же видеть. Дело решено, кем? вами и ею; решено без всякой справки, согласны ли те пятьдесят человек на такую перемену, не хотят ли они чего-нибудь другого, не находят ли они чего-нибудь лучшего. Ведь это деспотизм, Вера Павловна. Вот уж за вами два великие преступления: безжалостность и деспотизм. Но третье еще более тяжелое. Учреждение, которое более или менее хорошо соответствовало здравым идеям об устройстве быта, которое служило более или менее важным подтверждением практичности их, — а ведь практических доказательств этого еще так мало, каждое из них еще так драгоценно, — это учреждение вы подвергали риску погибнуть, обратиться из доказательства практичности в свидетельство неприменимости, нелепости ваших убеждений, средством для опровержения идей, благотворных для человечества; вы подавали аргумент против святых ваших принципов защитникам мрака и зла. Теперь, я не говорю уже о том, что вы разрушали благосостояние 50 человек, — что значит 50 человек! — вы вредили делу человечества, изменяли делу прогресса. Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против духа святого, — грехом, о котором говорится, что всякий другой грех может быть отпущен человеку, но этот — никак, никогда. Правда ли? преступница? Но хорошо, что все это так кончилось и что ваши грехи совершены только вашим воображением. А ведь, однако ж, вы в самом деле покраснели, Вера Павловна. Хорошо, я вам доставлю утешение. Если бы вы не страдали очень сильно, вы не совершили бы таких преступных вещей и в воображении. Значит, настоящий преступник и по этим вещам — тот, кто так сильно расстроил вас. А вы твердите: как он добр, как он добр!
— Как? По-вашему он был виноват, что я страдала?
— А то кто же? И все это дело, — он вел его хорошо, я не спорю, — но зачем оно было? зачем весь этот шум? ничему этому вовсе не следовало быть.
— Да, я не должна была иметь этого чувства. Но ведь я не звала его, я старалась подавить его.
— Ну вот, не была должна. В чем вы виноваты, того вы не замечали, а в чем ничуть не виновата, за то корите себя! Этому чувству необходимо должно было возникнуть, как скоро даны характеры ваш и Дмитрия Сергеича: не так, то иначе, оно все-таки развилось бы; ведь здесь коренное чувство вовсе не то, что вы полюбили другого, это уже последствие; коренное чувство — недовольство вашими прежними отношениями. В какую форму должно было развиться это Недовольство? Если бы вы и он, оба, или хоть один из вас, были люди не развитые, не деликатные или дурные, оно развилось бы в обыкновенную свою форму — вражда между мужем и женою, вы бы грызлись между собою, если бы оба были дурны, или один из вас грыз бы другого, а другой был бы сгрызаем, — во всяком случае, была бы семейная каторга, которою мы и любуемся в большей части супружеств; она, конечно, не помешала бы развиться и любви к другому, но главная штука была бы в ней, в каторге, в грызении друг друга. У вас такой формы не могло принять это недовольство, потому что оба вы люди порядочные, и развилось только в легчайшую, мягчайшую, безобиднейшую свою форму, в любовь к другому. Значит, о любви к другому тут и толковать нечего: вовсе не в ней сущность дела. Сущность дела — недовольство прежним положением; причина недовольства — несходство характеров. Оба вы хорошие люди, но когда ваш характер, Вера Павловна, созрел, потерял детскую неопределенность, приобрел определенные черты, — оказалось, что вы и Дмитрий Сергеич не слишком годитесь друг для друга. Что тут предосудительного кому-нибудь из вас? Ведь вот и я хороший человек, а могли бы вы ужиться со мною? Вы повесились бы от тоски со мною, — через сколько дней, как вы полагаете?
— Через немного дней, — сказала Вера Павловна, смеясь.
— Он не такое мрачное чудовище, как я, а все-таки вы и он слишком не подстать друг другу. Кто должен был первый заметить это? Кто старее летами, чей характер установился раньше, кто имел больше опытности в жизни? он был должен предвидеть и приготовить вас, чтобы вы не пугались и не убивались. А он понял это лишь тогда, когда не только что вполне развилось чувство, которого он должен был ждать и не ждал, а когда уж даже явилось последствие этого чувства, другое чувство. Отчего ж он не предвидел и не заметил? Глуп он, что ли? Достало бы ума. Нет, от невнимательности, небрежности он пренебрегал своими отношениями к вам, Вера Павловна, — вот что! А вы твердите: добрый он, любил меня! — Рахметов, постепенно одушевляясь, говорил уже с жаром. Но Вера Павловна остановила его.
— Я не должна слушать вас, Рахметов, — сказала она тоном резкого неудовольствия: — вы осыпаете упреками человека, которому я бесконечно обязана.