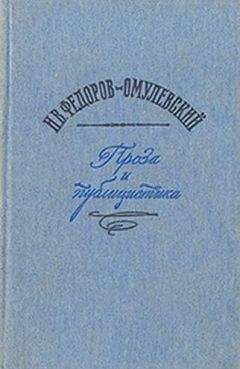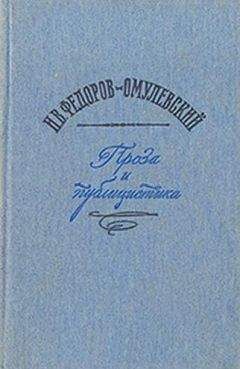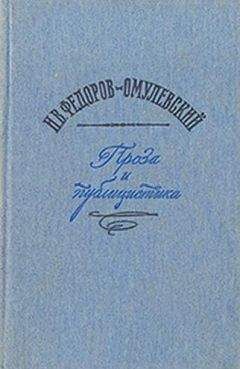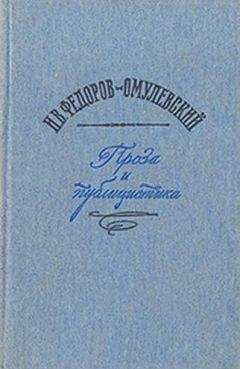Иннокентий Омулевский - Шаг за шагом
Варгунин принужден был дать слово приехать как можно скорее. У Матвея Николаича быша одна из тех любящих и стойких натур, которые мало думают о себе, когда дело идет о судьбе их любимцев. Он знал, что «деды» ни в каком случае уже не изменят своего последнего слова, и решился лично участвовать в фабричном движении, надеясь своей опытностью и влиянием на народ отклонить от него какое-нибудь непредвиденное несчастье, а может быть, и преступление. Такова была роль, которую Варгунин добровольно назначил себе в этом деле. Матвей Николаич, сам всю жизнь протестовавший в пустыне, был настолько опытен, что мало мог предвидеть хорошего впереди от подобной попытки, но опять и не в его характере было сомневаться в возможности достигнуть чего-нибудь этим путем. Перед отъездом из города он сообщил обо всем Светлову, прося его совета и, если можно, помощи, т. е. личного присутствия в фабрике. В чем другом, а в этом Александр Васильич не мог отказать никому, тем более Варгунину.
— Да что же они думают сделать-то? — спросил он у него только, сейчас же согласившись ехать.
— Хотят, батенька, потребовать всей фабрикой от директора, чтоб он немедленно ее оставил, или, в противном случае, все прекратят работы. Пускай, говорят, приезжает городское начальство, так мы уж с ним потолкуем. Вот все, что по крайней мере я знаю, батенька.
Варгунин не притворялся: он действительно только это и знал.
Вo многих фабричных головах бродила еще вчерашняя вечорка, как уже с раннего утра стало обнаруживаться особенное движение на улицах фабрики: то и дело встречались группы рабочих в пять-шесть человек, хотя день был и не праздничный. Одни из них, постарше, остановясь где-нибудь у забора, серьезно и с жаром разговаривали между собою вполголоса; другие, помоложе, взявшись дружно за руки, с вызывающим видом расхаживали взад и вперед, заломив набекрень шапки и напевая, тоже вполголоса, любимые фабричные песни. «Уж как в фабричке у нас» слышалось часто и в разных концах деревни. Ближайшие соседки беспрестанно обменивались между собой торопливыми визитами, спеша поделиться их результатом с другими. В так называемой «сборной избе» степенно и угрюмо совещались «деды», рассылая с разными поручениями во все концы фабрики любопытных ребятишек, одаренных непобедимым свойством — всегда торчать там, где соберутся взрослые.
Одного из таких гонцов перехватил на улице смотритель. Он шел сегодня ранее обыкновенного на заводы по распоряжению директора, которому еще вчера ночью успели доложить о необыкновенно дерзком поведении старосты: приказано было тщательно переписать на другой день всех, кто не явится на работу в срок, минута в минуту.
— Ты куда бежишь, чертенок? — строго остановил смотритель востроглазого гонца «дедов».
— Тятька послал за рукавицами к Софронихе, — ответил тот смело, не шевельнув ни одной ресницей.
— Своих-то мало ему, что ли? Да ты мне, чертенок, говори правду, а то ведь я тебя и за вихри возьму! — пригрозил смотритель.
— Да я не знаю. Мне тятька сказал: проси у Софронихи рукавицы, которые она мне новые сошила, — я и бегу.
— Пропил, видно, старые-то… — едко заметил убежденный смотритель и пошел дальше.
Он завернул сперва на суконный завод: хоть бы один человек явился! — пустехонько; зашел на стеклянный — та же история; а между тем обычный час работ уже наступил, и даже прошло минут двадцать лишних. Обстоятельство это было особенно поразительно в отношении стеклянного завода: там всегда оставалось на ночь несколько человек дежурных рабочих, поддерживавших огонь плавильной печи, которая на одни сутки гасилась только раза два или три в месяц, перед начатием новой серии работ. Смотритель обыкновенно заглядывал сюда не каждую ночь, а изредка, больше для виду, во всем полагаясь на старосту; вчера он тоже не был здесь и теперь, к величайшему своему изумлению, нашел плавильную печь совершенно остывшей, даже без малейшего намека на ночную работу. Необходимо заметить, что директор держал этого господина в черном теле и на тугих вожжах; за право поживляться иногда малою толикой на счет заводов он подчинил его себе беспрекословно. Как и всегда бывает в подобных случаях, смотритель, разыгрывая, с одной стороны, роль верного директорского пса, с другой — являлся весьма убыточным паразитом в отношении рабочих; поэтому он не на шутку струсил теперь за свою оплошность и со всех ног кинулся к старосте.
Семен Ларионыч преспокойно сидел у себя на завалинке, беззаботно поколачивая в нее сучковатой палкой, всегда так магически созывавшей, бывало, фабричных на обычное заводское дело.
— Что ж ты не гонишь людей на работу? Али одурел со вчерашней-то вечорки? — крикнул на него впопыхах смотритель, почти прибежавший бегом.
— И сам не пойду и людей гнать не стану, — ответил староста убийственно холодным тоном, не допускавшим возражения.
Смотритель растерялся.
— Ведь они, мошенники этакие, плавильную погасили! Ты чего смотришь? — спросил он снова, не дав еще себе отчета в значении ответа старосты.
— Погашена, — знаю.
Семен Ларионыч был невозмутим, как и вчера.
— Так ты что же?.. — как-то глухо уже и будто машинально проговорил смотритель.
— Видишь — сижу, палкой балую…
«Жила» растерялся еще больше и, по-видимому, не знал, что сказать.
— П-шол за мной к директору! — крикнул он через минуту на всю улицу, выведенный из себя равнодушием старосты.
— Неспопутно; мне и тут ладно.
У смотрителя потемнело в глазах от досады и сознания своего начальнического бессилия.
— Ах вы… сволочь этакая! — проговорил он сквозь зубы.
Староста неторопливо поднялся с завалинки.
— Погляди-ко сюда, ваше благородие, — сказал он бесстрастно, — вишь ты эту палку, сколько на ней зубцов? Ежели я теперича этой самой палкой рожу тебе смажу… что будет? — знаешь?
И Семен Ларионыч, пристально посмотрев на собеседника, опять так же неторопливо присел на завалинку.
Смотритель как угорелый кинулся со всех ног к директору.
Оржеховский еще спал; ему, может быть, снились теперь те новые тысячи, которые отложит он в свой карман на будущий год, в ущерб казне и благосостоянию рабочих. По запертым ставням и наружной тишине в доме смотритель догадался, что начальство почивает и, не осмеливаясь тревожить его покоя, уселся в ожидании на одной из ступенек высокого крыльца; «жена… семеро детей…» — так и сквозило у него на лице. Этот человек вел жестокую борьбу за свое и их существование; на скольких заводах ни приходилось ему служить, везде он был только верной собакой и везде на его долю перепадали одни только крохи. В Ельцинской фабрике дела смотрителя пошли как будто лучше; правда, что он и здесь играл ту же самую жалкую роль, но зато на этом новом месте его беззастенчивая рука стала ощупывать иногда между крохами и целый лакомый кусок.
«А вот теперь и сменят, пожалуй, директора: опять кусай пальцы…» — безотрадно думалось ему.
Какой-то глухой, все более и более усиливающийся шум вывел смотрителя из глубокого, продолжительного забытья; он испуганно мотнул головой, вскочил на ноги и быстро поднялся до самой верхней ступеньки крыльца. Крыльцо вело со двора прямо во второй этаж и оканчивалось широкой площадкой перед входной дверью; оттуда, сверху, открывался просторный вид на улицу. Теперь, стоя на этой самой площадке и держась дрожащими руками за ее перила, смотритель был поражен необыкновенной, невиданной картиной: огромная толпа фабричных медленно подвигалась вдоль улицы по направлению к директорскому дому; разноцветные головные платки женщин оживляли до некоторой степени однообразный и сплошной серый тон дубленых полушубков; фабричные мальчишки густыми кучками юркали сзади. Всмотревшись в эту исполинскую волну голов, смотритель, хорошо знавший численность местного населения, не мог не прийти к тому ужасному выводу, что тут была поставлена на ноги буквально вся фабрика. Растерянный до отупения, он вдруг ни с того ни с сего опрометью кинулся вниз и со всего размаха запер отворенную им при входе калитку, как будто эта убогая дверца могла разыграть роль неприступной скалы в борьбе с надвигавшейся все более народной волной. Едва захлопнулась калитка, как из углового окна верхнего этажа высунулась в форточку черноволосая, курчавая голова директора в вышитой бисером ермолке, и его бледное, с неподвижно-холодными глазами лицо прямо уставилось на смотрителя, оторопело державшегося обеими руками за железный засов.
— Что у вас там опять?.. Что вы тут делаете? — недовольным тоном крикнул ему Оржеховский.
Из чуткого утреннего сна его именно и вывел отчаянный стук, наделанный смотрителем.
— Беда, Григорий Николаич: вся фабрика взбунтовалась! — доложил тот, выбежав на середину двора и подобострастно снимая фуражку.