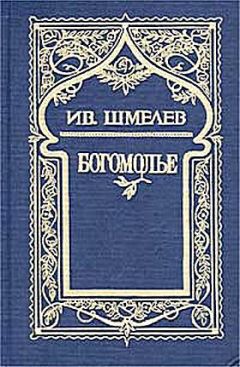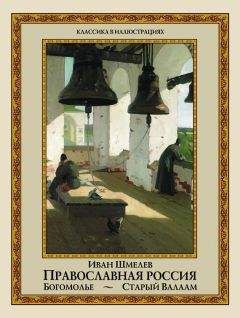Иван Шмелев - Том 4. Богомолье
Горкин с Михал-Ивановым стараются у вербы: сани надо опорожнить, домой торопиться надо. Молодцы приносят большую чистую кадь, низкую и широкую, – «вербную», только под вербу ходит, – становят в нее пуками вербу, натуго тискают. Пушится огромный куст, спрятаться в него можно. Насилу-насилу подымают, – а все старики нарезали! – ставят на ломовой полок: после обеда свезут к Казанской. Верба теперь высокая, пушится над всем двором, вишневым блеском светится. И кажется мне, что вся она в серых пчелках с золотистыми крылышками пушистыми. Это вот красо-та-а!..
Михал-Иванов торопится, надо бы закупить для Праздника, чайку-сахарку-мучицы, да засветло ко дворам поспеть, – дорога-то совсем, поди, разгрязла, не дай-то Бог! Горкин ласково обнадеживает: «Господь донесет, лес твой не убежит, все будет». Жалко мне Михал-Иванова: в такую-то даль поедет, в дрему-дремучую! если бы с ним поехать!.. – и хочется, и страшно.
Старуха его довольна, кланяется и кланяется: так-то уж одарили-обласкали! Сестрицы ей подарили свою работу – веночек на образа, из пышных бумажных розанов. Матушка как всегда – кулечек припасцу всякого, старого бельеца и темненького ситчику в горошках, а старику отрезок на рубаху. Марьюшка – восковую свечку, затеплить к Празднику: в лесу-то им где же достать-то. Отец по делам уехал, оставил им за орехи и за вербу и еще три рубля за белку.
– Три ру-бля-а!.. Уж так-то одарили-обласкали!.. Трифоныч манит старика и ведет в закоулочек при лавке, где хранится зеленый штоф, – «на дорожку, за угольки». Михал-Иванов выходит из закоулочка, вытирает рот угольным рукавом, несет жирную астраханскую селедку, прихватил двумя пальцами за спинку промасленной бумажкой, – течет с селедки, до чего жирная, – прячет селедку в сено. И Горкин сует пакетик – чайку-сахарку-лимончик. Отъезжают, довольные. Старик жует горячий пирог с кашей, дает откусить своей старухе, смеется нам белыми зубами и белыми глазами, машет нам пирогом, веселый, кричит – «дай, Господи… гу-ляй, верба!..». Все провожаем за ворота.
Я бегу к белочке, посмотреть. Она на окне в передней. Сидит – в уголок забилась, хвостом укрылась, бусинки-глазки смотрят, – боится, не обошлась еще: ни орешков, ни конопли не тронула. Клетка железная, с колесом. Может быть, колеса боится? Пахнет от белки чем-то, ужасно крепким, совсем особенным… – дремучим духом?..
В каретном сарае Гаврила готовит парадную пролетку – для «вербного катанья», к завтрему, на Красной Площади, где шумит уже вербный торг, который зовется – «Верба». У самого Кремля, под древними стенами. Там, по всей площади, под Мининым-Пожарским, под храмом Василия Блаженного, под Святыми Воротами с часами, – называются «Спасские Ворота», и всегда в них снимают шапку – «гуляет верба», великий торг – праздничным товаром, пасхальными игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то сластями, пасхальными разными яичками и – вербой. Горкин говорит, что так повелось от старины, к Светлому Дню припасаться надо, того-сего.
– А господа вот придумали катанье. Что ж поделаешь… господа.
В каретном сарае сани убраны высоко на доски, под потолок, до зимы будут отдыхать. Теперь – пролетки: расхожая и парадная. С них стянули громадные парусинные чехлы, под которыми они спали зиму, они проснулись, поблескивают лачком и пахнут… чудесно-весело пахнут, чем-то новым и таким радостно-заманным! Да чем же они пахнут?.. Этого и понять нельзя… – чем-то… таким привольным-новым, дачей, весной, дорогой, зелеными полями… и чем-то крепким, радостей горечью какой-то… которая… нет, не лак. Гаврилой пахнут, колесной мазью, духами-спиртом, седлом, Кавказкой, и всем. что было, из радостей. И вот, эти радости проснулись. Проснулись – и запахли, запомнились; копытной мазью, кожей, особенной душистой, под чернослив с винной ягодой… заманным, неотвязным скипидаром, – так бы вот все дышал и нюхал! – пронзительно-крепким варом, наборной сбруей, сеном и овсецом, затаившимся зимним холодочком и пробившимся со двора теплом с навозцем, – каретным, новым сараем, гулким и радостным… И все это спуталось-смешалось в радость.
Гаврила ставит парадную пролетку – от самого Ильина с Каретного! – на козлики и начинает крутить колеса. Колеса зеркально блещут лаковым блеском спиц, пускают «зайчиков» и прохладно-душистый ветерок, – и это пахнет, и веет-дышит. Играют-веют желто-зеленые полоски на черно-зеркальном лаке, – самая красота. И все мне давно знакомо – и ново-радостно: сквозная железная подножка, тонкие, выгнутые фитой оглобли с чудесными крепкими тяжами, и лаковые крылья с мелкою сеткой трещинок, и складки верха, лежащие гармоньей… но лучше всего – колеса, в черно-зеркальных спицах. Я взлезаю на мягко-упругое сиденье, которое играет, покачивает зыбко, нюхаю-нюхаю-вдыхаю, оглаживаю мою скамеечку, стянутую до пузиков ремнями, не нагляжусь на коврик, пышно-тугой и бархатистый, с мутными шерстяными розами. Спрыгиваю, охаживаю и нюхаю, смотрюсь, как в зеркало, в выгнутый лаковый задок. Конечно, она – живая, дышит, наша парадная «ильинка». Лучше ее и нет, – я шарабана не считаю: этот совсем особый, папашенькин.
Гаврила недоволен: на гулянье в колясках ездят, а то в ланде, а с пролеткой квартальные в самый конец отгонят, где только сбродные. Недоволен и армяком, и шляпой. Чего показывать, – экая невидаль, пролетка! Набаловался у богачей, «у князя в кибриолетах ездил». Я говорю Гавриле – «пошел бы к князю!» – так Антипушка ему говорит. Гаврила сердится: «ты еще мне посмейся!»
Не годится он в богатые кучера, ус не растет. Антипушка уж советовал: «натри губу копытной мазью – целая грива вырастет». Пожалуй, скоро уйдет от нас, Василь-Василич говорил: «Маша наша сосваталась с Денисом, только из-за нее и жил». Теперь и наша «ильинка» нехороша. А как, бывало, прокатывал-то на Чаленьком, вся улица смотрела, – ветру, бывало, не угнаться.
Идем с Горкиным к Казанской, – до звона, рано: с вербой распорядиться надо. Загодя отвезли ее, в церкви теперь красуется. Навстречу идут и едут с «Вербы», несут веночки на образа, воздушные красные шары, мальчишки свистят в свистульки, стучат «кузнецами», дудят в жестяные дудки, дерутся вербами, дураки. Идут и едут, и у всех вербы, с листиками брусники, зиму проспавшей в зелени под снегом.
И церкви, у левого крылоса, – наша верба, пушистая, но кажется почему-то ниже. Или ее подстригли? Горкин говорит – так это наша церковь высокая. Но отчего же у лужи там… – небо совсем высокое? Я подхожу под вербу, и она делается опять высокой. Крестимся на нее. Раздавать не скоро, под конец всенощной, как стемнеет. Народу набирается все больше. От свещного ящика, где стоим, вербы совсем не видно, только верхушки прутиков, как вихры. Тянется долго служба. За свещным ящиком отец, в сюртуке, с золотыми запонками в манжетах, ловко выкидывает свечки, постукивают они, как косточки. Мно го берут свечей. Приходят и со своими вербами, но своя как-то не такая, не настоящая. А наша настоящая, свяченая. О-чень долго, за окнами день потух, вербу совсем не видно. Отец прихватывает меня пальцами за щечку: «спишь, капитан… сейчас, скоро». Сажает на стульчик позади. Горкин молится на коленках, рядом, слышно, как он шепчет: «Обчее воскресение… из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже…» Дремотно. И слышу вдруг, как из сна «О-бщее воскресение… из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже… Тебе, победителю смерти, вопием… осанна в вышних!» Проспал я?.. Впереди, там, где верба, загораются огоньки свечей. Там уже хлещутся, впереди… – выдергивают вербу, машут… Там текут огоньки по церкви, и вот – все с вербами. Отец берет меня на руки и несет над народом, над вербами в огоньках, все ближе – к чудесному нашему кусту. Куст уже растрепался, вербы мотаются, дьячок отмахивает мальчишек, стегает вербой по стрижевым затылкам, шипит: «не напирай, про всех хватит…» О. Виктор выбирает нам вербы попушистей, мне дает самую нарядную, всю в мохнатках. Прикладываемся к образу на аналое, где написан Христос на осляти, каменные дома и мальчики с вербами, только вербы с большими листьями, – «вайи»! – долго нельзя разглядывать. Тычутся отовсюду вербы, пахнет горьким вербным дымком… дремучим духом?.. – где-то горят вербешки. Светятся ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах на ризах. По стенам и вверху, под сводом, ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Все это наша верба, из стариковых санок, с нашего двора, от лужи, – как просветилась-то в огоньках! Росла по далекой Сетуньке, ехала по лесам, ночевала в воде в овраге, мыло ее дождем… и вот – свяченая, в нашей церкви, со всеми поет «Осанну», Конечно, поет она: все, ведь, теперь живое, воскресшее, как Лазарь… – «Общее Воскресение».
Смотрю на свечку, на живой огонек, от пчелок. Смотрю на мохнатые вербешки… – таких уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. – «Что, устал?» – спрашивает он тихо. Я шепчу: «а Михал-Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку… – «давно дома, спит уж… за свечкой-то гляди, не подожги… носом клюешь, мо-лельщик…» Слышу вдруг треск… – и вспыхнуло! – вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный-горьковатый запах, чудесный, вербный! и в этом запахе что-то такое светлое, такое… такое… – было сегодня утром, у нашей лужи, розовое-живое в вербе, в румяном, голубоватом небе… – вдруг осветило и погасло. Я пригибаю прутики к огоньку: вот затрещит, осветит, будет опять такое… Вспыхивает, трещит… синие змейки прыгают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает… неуловимо это, как тонкий сон.