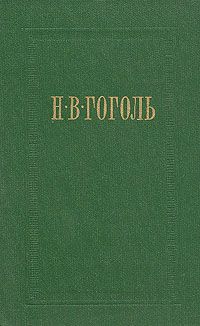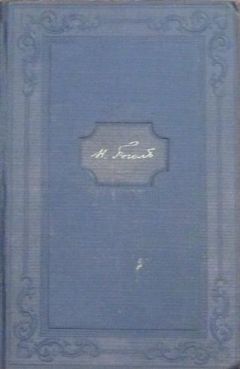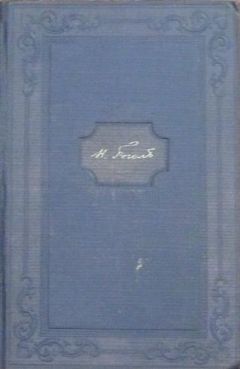Михаил Салтыков-Щедрин - Современная идиллия
Заветнейшею его мечтою было заполучить железную дорожку. Сначала... хоть узкоколейную. Вот кашинские патриоты давно уж ропщут, что размаху им не дают - на что бы лучше! А не то можно и из Углича линийку провести. Капитал у Лазаря есть; не громадный, правда, но ведь не в капитале сила, а в том, чтоб иметь под рукою запас дураков. А в этом отношении Вооз поможет. Денег не даст, но пути укажет и дураков подыщет... А что, если он проект-то выведает, да сам для себя дорожку и отхлопочет? И останется он, Лазарь, в дураках... Ах, брат! брат! неужто ты это сделаешь? неужто ты еще не сыт?
А железнодорожное дело он знает: еще подростком он служил сряду несколько лет на одной дороге, сперва на побегушках, потом в писарях, а наконец и десятником. В то время строителем дороги был молодой инженер, который его все палкой по голове бил, - вот его он и сделает главноуправляющим _своими дорогами_. От него он "науку" узнал, ума набрался, а теперь может и сам что угодно выстроить. И рабочих он дешево наймет, а коли дорожиться будут, то обсчитает... нет, пускай уж лучше дешево наймет! А впрочем, обсчитать, пожалуй, выгоднее. Не по одиночке, а непременно разом всех. По одиночке - пожалуй, заплатить присудят, а когда _все разом_ будут расчета требовать, то выйдет бунт, а там как раз и неповиновение властям...
"А игде же у нас гаспадин исправник тут?"
И вот он выстроил одну дорожку, выстроил другую и окончательно основался в Петербурге. Купил в Большой Морской дом, прямо против дома Вооза; оба по две француженки содержат, оба на приюты жертвуют. И ездят друг к другу: я - к нему, он - ко мне. Летом он посещает Эмс, чтобы легче экспекторировать, в сентябре едет купаться в Трувиль, потом в Париж, в Ниццу... И везде ему скучно. Везде его преследует представление о какой-то фантастический еде, которая ему приличествует и которую он не может назвать, о какой-то женщине с диковинным секретом, за который он дорого бы заплатил, но который еще сама природа покуда не догадалась создать... А инженер между тем дороги ему строит. Заглянет он, между делом, в Петербург и обревизует счеты. Потом задаст полководцам тонкий обедец, а после обеда в зубах ковыряет. И опять в Ниццу, в Париж... И вдруг опять... эта ужасная мысль! Едят у него полководцы, чествуют гостеприимного хозяина, хвалят вино, сигары; но вот один из них отделяется и дружески хлопает его по коленке: "А что бы вам, Лазарь Давыдыч, тово... махни-ка, брат... а?" Лазарь бледнеет от злобы, но и в мечтах не может отыскать приличный ответ. Такой ответ, чтоб был храбрый. И убеждается, что даже наверху благополучия ему нет другого выхода, кроме как проклинать...
О восстановлении иудейского царства он не мечтал: слишком он был для этого реалист. Не мог даже вообразить себе, что он будет там делать. Ведь Иерусалима, наверное, не отдадут, разве вот Сихем - так уж лучше в Кашинском уезде у Мошки в гостях жить. Конечно, и в Сихем можно мамзель Жюдик выписать... Никогда он Жюдик не видал, но, будучи сладострастен, распалялся на веру. Давно уж он понимал, что Рахэль ему не пара. А притом слишком уж часто родит. Поэтому в мечтах о предстоящей привольной жизни в Петербурге он постоянно отделял в предполагаемом собственном доме особый апартамент для себя. Рахэль, с детьми, гувернантками и гувернерами, он поместит в бельэтаже; подыщет троих действительных статских советников, которые будут составлять ей партию в винт, а сам поселится в rez de chaussee {Нижний этаж.} и будет принимать Жюдик. Лопочет Жюдик, как оглашенная, по-французски, а он с полководцами сидит и хохочет. А чему хохочет - не знает.
По временам перед ним восставало его далекое детство. Ах, что такое там было... ффа!! Родился он в Ошмянах, в полуразвалившейся хижине, выходившей своими четырьмя окнами в улицу, наполненную навозом. Отец его был честный старый еврей, ремеслом лудильщик, и буквально помирал с голоду, потому что лудильщиков в городе расплодилось множество, а лудить было нечего. Но старик бодрился. Он не изменял завету предков, не снимал с головы ермолки, ни длиннополого заношенного ламбсердака с плеч, не обрезывал пейсов и по целым вечерам, обливаясь слезами, пел псалмы, возвещавшие и славу Иерусалима, и его падение. Он был один из тех бедных, восторженных евреев, которые, среди зловония и нечистот уездного городка, умеют устроить для себя мучительно-возвышенный мираж, который в одно и то же время и изнуряет, и дает силу жить. Лазарь и теперь еще как живого представлял себе этого сухого старика, который до самой смерти не переставал стучать паяльником, добывая кусок для одолевавшей его семьи.
Но к воспоминаниям об отце он относился как-то загадочно, как будто говорил: а кто же ему велел зевать! И Вооз был в отрочестве лудильщиком, и он, Лазарь, тоже. И теперь еще есть у него в Ошмянах два родных брата в лудильщиках, и он собирается послать им пятьдесят целковых, да все забывает. Но Вооз рано прозрел, а за Воозом через несколько лет прозрел и Лазарь. Вооз сразу пошел ходко; выходился, вычистился, выкааад недюжинные способности, завел прическу a la Capoul и понравился банкирше. А там подошел хороший гешефт, он нырнул... и вынырнул; потом опять вынырнул и опять. Теперь живет чуть не в десяти дворцах - во всех мало-мальски стоящих европейских городах по одному, - завел льстецов и н_а_пусто уж не плюнет - извините! Лазарь же хоть и не столь преуспел, а все-таки сумел уничтожить тот особливый наружный облик, который запирает еврею вход в жизнь. Он ходит в жакетке, причесывается a la mal content, а захочет, так отпустит волосы и пробор посредине головы изваяет. Вообще он пожаловаться на судьбу не может. Хоть и далеко ему до брата, но...
Покуда таким образом перед умственными нашими взорами развертывалась жизнь Ошмянского, он пригласил нас в дом. Но повел нас не в нижний этаж, где ютилось его семейство и откуда неслись раздирающие крики малолетних евреев, а наверх, в комнаты, выговоренные князем для себя, на случай приезда. Мы вошли в обширное, вполне барское помещение, в котором, впрочем, сохранилось уж очень мало мебели. Высокие парадные комнаты выходили окнами на солнечную сторону; воздух был сухой, чистый, легкий, несмотря на то, что уж много лет никто тут не жил. Лазарь выводил нас везде и не переставая жаловался.
- Одних дров сажен сто на отопление этих сараев в год выходит, говорил он, - да сколько на оранжереи да на теплицы! И все это я должен _своими_ дровами отоплять! Доказывал я молодому князю, что гораздо было бы выгоднее верхний этаж снять, и даже деньги хорошие предлагал, а он старика боится. Думает, что здесь умереть захочет, да где уж! А тут одного кирпича сколько - подумайте! Да и нижний этаж облегчился бы, а чтобы в нем жить было веселее, я бы и парк вырубил - вон хоть до тех пор (он показал пальцем что-то далеко). Подумайте, какие деревья - дубы, лиственницы, кедры есть! сколько тут добра! И все пропадает задаром. А в особенности оранжереи - вот они у меня где сидят! Садовники народ балованный, а им жалованье плати. Кто плати? - все я. А уничтожьте эти ненужные затеи - сколько одного кирпича! Старик ничего этого во внимание не берет, а я отдувайся!
Пожаловавшись, рассказал нам изложенные выше подробности о старом князе и выразил надежду, что с его смертью легче будет с наследником дело иметь. Любит он, Лазарь, нынешнюю молодежь - такая она бодрая, дельная! Никаких сантиментов: деньги на стол - и весь разговор тут.
- А у старика, я знаю, есть капитал, - прибавил он, - только он большую часть дочери отдаст, а та - в монастырь... Вот тоже я вам скажу (он тоскливо замотал головой)! Ежели бы я был правительство, я бы....
- Но так как вы правительством никогда не будете...строго прервал его Глумов, но не кончил, потому что Лазарь при первых же звуках его голоса до того присел, что мы с минуту думали, что он совсем растаял в воздухе. Однако ж через минуту он опять осуществился.
- А имение перейдет к сыну, - продолжал он, - вот тогда...
И в знак восторга замахал руками, как дореформенный телеграф.
Между тем сквозь открытые окна, снизу из стряпущей, до нас доносились съестные запахи. Пахло жареным луком, кочерыжками и чем-то вроде мытого белья. Последний запах издавал жареный гусь, которому, по преклонности лет и недугам, оставалось жить всего двадцать четыре часа и которого Ошмянский, скрепя сердце, приказал зарезать. Поэтому-то, быть может, так и ревели внизу маленькие евреи, не подозревая, что Лазарь решил в уме своем наградить гусем не всех, но лишь достойнейших. Одну минуту мы думали, что радушный хозяин и нас пригласит хлеба-соли отведать, да он и сам уже начал:
- А может быть, вы изделаете мне удовольствие...
Но сейчас же испугался и, чтоб окончательно не возвращаться к этому предмету, убежал на балкон, где некоторое время обмахивался платком, чтоб прийти в себя. Наконец он кликнул работника, чтоб разыскал Мошку и Праздникова, и позеленел от злости, узнав, что оба еще накануне с вечера отправились за двадцать верст на мельницу рыбу ловить и возвратятся не раньше завтрашнего утра.