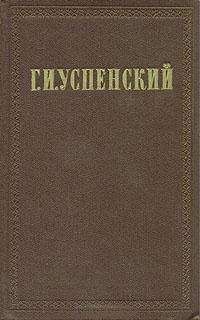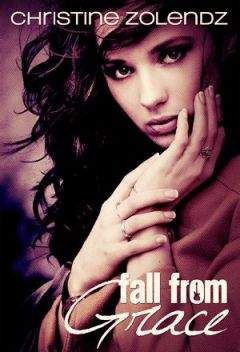Глеб Успенский - Том 3. Новые времена, новые заботы
Едва мы выехали за селение, как меня от детей позвали в экипаж господ… Ни злобы, ни ненависти, ни вражды не было у обоих ни капли. Они действовали, работали, благополучно окончили предприятие и были в самом веселом расположении духа… Извинившись передо мной и насулив мне в будущем золотые горы, которым я уж, конечно, не верил, они наперерыв друг перед другом старались расположить меня к себе, засыпали разговорами и воспоминаниями о заграничной жизни… Не могу представить, что это были за воспоминания! «Ах, Париж! — говорит мадам, хватаясь за голову от восхищения, и внезапно прибавляет, обращаясь к мужу: — помнишь, у Вефура маленькие птички и такая поджаренная штучка… что это такое!..» — «А вино-то, а вино-то, а вино-то?.. Ах, а-ах, ах, ах…» Ицелый поток вин, счетов, туалетов, перемешанных с винами и едами, имен кокоток и очаровательных мужчин, перемешанных с туалетами и винами, и, наконец, сплошное и длинное признание во всевозможном распутстве. В этом они оба как бы сливались воедино, были нераздельны, великодушны друг к другу, гуманны и человечны до последней степени. В этом-то потоке воспоминаний, к удивлению моему, поминутно то он, то она произносили что-яибудь вроде: «Чувство не может быть стеснено…», «Никто не имеет права распоряжаться чужим сердцем…» и т. д., и к каждому такому изречению то он, то она присоединяли рассказ, от которого я горел со стыда… а они, прямо сказать, облизывались. Под конец они до такой степени изумили меня избытком взаимной преданности друг к другу, что я поторопился перебраться в тот экипаж, где были дети.
Когда я подошел к детям, они о чем-то оживленно разговаривали, друг друга перекрикивая, громко смеялись, «заливаясь смехом», но, завидев меня, замолкли, сохраняя возбужденное выражение лиц. «Что же вы замолчали? разговаривайте!» — сказал я… Дети переглядывались друг с другом, хитро улыбались и молчали. «О чем вы разговаривали? расскажите мне». Некоторое время они молчали, но один из них не выдержал и торопливо проговорил: «Как мы были влюблены!..» — «Кто мы?» — «Мы все… Я, Вася, Лиза…» — «Я только раз, — сказал Вася, мальчик, как мне показалось, угрюмо-туповатый: — а Федя — пятнадцать — тридцать — миллион!» (Вася был девяти лет, но не умел ни считать, ни читать и по развитию был не больше четырехлетнего ребенка). «Умамы тоже тридцать миллионов!» — прибавил Федя (старше Васи двумя годами). «Глупый», — сказала Лиза и состроила скромное лицо. «А у самой тоже семь мальчиков!» — сказали оба мальчика… Лиза, девочка по одиннадцатому году, понимавшая больше всех детей и более всех зараженная фальшью, только было хотела сделать обиженное, презрительное лицо, как Вася, откровенный, хотя и дубоватый, торопливо заговорил, обращаясь ко мне: «А моя мама меня, раз случилось, забыла в фиакре… Вы знаете Шарль?» — «Нет, не знаю». — «Это из контуар… Папа называл его „карамора“… Они меня и забыли… Поехали о-буа, там такой есть кафе… из маленьких рюмочек пьют… Они пили, а я захотел спать… Шарль взял и снес меня в фиакр, а потом они ушли пешком и забыли… Я проснулся у солдат. Вот так смешное». — «Смешное?» — «А как тебя домой привезли?» — напоминала Лиза. «Я у них был два дня… На третий день пришел папа… и взял… Тогда было страшно, теперь нет…» — «А папа вывалился из фиакра… — заговорил Федя: — а я сижу, испугался, плачу… Его ударила Камиль…» — «А он?» — спросил Вася. «Он упал и лежит. Потом его посадили опять и повезли, привезли в церковь — вызвали людей и стали спрашивать, где живет мосье, а папа спит… Меня тоже Алиса ударила. Я не бранился, и папа не бранился… А потом я ее ударил за бисквит…» — «А Лиза! — опять начал Вася: — так ее били, страсть как, и Пьер, и Фред, и консьержев Андре… дубина чистая, а ей нравится… Этакая вертушка!» — «Какие ты все говоришь глупости. Неприятный мальчик!.. И мама ведь упала с лестницы, помнишь? а на меня говоришь». — «Мама плакала, а ты рада. Ты говоришь: вырасту — поеду к Андре, и он тебя изобьет палкой. Уж Фред — вот чудо, как у мамы этот беленький, Антуан… до-обрый, а она его обругала… Она тогда сердилась… А папа — так тот никогда не бил… Только раз палкой ударил лакея… Помнишь? (обращался он то к Феде, то к Лизе). У обезьян… Помнишь, ибисы?..» — «Кра-а-ас-ные!..» — «Розовые, — поправила Лиза, — и голос у них как в медный таз бить палкой, громко звенит!» — «Нет, вот слон, — сказал Вася, — лев, бегемот; у бегемота, знаете, — голова с этот тарантас…» — «Ну, уж врешь!» — «Нет, будет, и он в воде и весь в…» — «Какой отвратительный мальчик! — скорчив неприятную гримасу, сказала Лиза: — всё у тебя на уме гадости». — «А у тебя консьержев Андрюнька-горюнька…» При этой фразе Васи все захохотали, не исключая и самого Васи. «Что же это значит: влюбиться?» — спросил я. «Целоваться! — сказал угрюмый Вася категорически… — Еще есть там штуки». — «А мама, — неожиданно произнес Федя, — ведь любит папу, она его только так бранит… он пьет… А когда его посадили в… знаешь? Она плакала… Помнишь, мы ходили? высоко-высоко… А потом поехали все, я, мама, Федя, Лиза, пить шоколад на бульвар, а там уж „карамора“ и есть… И нас всех угостили…» — «А еще мы видели, — начала Лиза, — верблюда!» Мальчики покатились со смеху. «Вот так заговорила! Говорили об одном, а она бог знает о чем… Верблюд! Умна! Очень умна!..» — «Дурак и отвращенье! — сказала Лиза со злостью. — Я скажу маме про то… помнишь?» (Это было сказано угрожающе.) «Говори! Все ты врешь. А я про тебя скажу. Что ты делала?.. Помнишь? а? Небось! Ну, говори, говори…» — «Лгунишка, гадкий мальчик!..» — «Она, знаете, что делала? (это уж Вася обращался ко мне). Я вошел в кабинет-туалет: вдруг…» — «Ни! ни! ни! ни!» — не сердясь, а лукаво улыбаясь и грозя пальцем, как колокольчик зазвенела Лиза. «То-то!» — «А ты лучше представь, как папа зовет гарсона, когда придет поздно». Вася тотчас же сделал осоловелые, пьяные глаза, искривил стан и во всю мочь, самым толстым, как говорят дети, голосом проревел раза три: «гарсон», с каждым разом все более и более выражая нетерпение и даже злясь… «Это он в темноте, — прибавил Вася: — так гаркнет — весь отель проснется…» — «А мама?» — подсказал Федя. «А мама совсем по-другому: „не ори, пожалуйста!“ — жеманясь, кокетничая, проговорил он. — Ну можно ли так орать (это она папе) — это ужас. Дай я…» И, подняв голос до самого высшего подобия птичьему, Вася, ко всеобщей потехе, необыкновенно смешно произнес то же слово, растягивая его и стараясь придать ему самый утонченный тон, и, окончив, прибавил: «И у обоих тут… (он повертел пальцами у лба) шумит…»
С тех пор как я твердо решился оставить их, я смотрел на них как на чужих, посторонних мне людей и не мог надивиться: ни родители, ни дети, казалось мне, не знали, да и не думали о том, зачем они существуют на свете? Эта семья была какой-то гриб, выросший на гнилой и жирной почве крепостного права; жизнь для них — грубое удовольствие, вечное отдохновение от ничегонеделания… Что ожидало их в будущем? На это я не мог дать ответа.
Весь этот день мы, то есть семейство Нееловых, было очень весело; на следующий день, по мере приближения к городу, где предстояло расплатиться с ямщиками, вновь все семейство сосредоточилось и притихло. Папа не был особенно хмелен и, очевидно, что-то соображал; мама тоже о чем-то крепко думала. А ямщики между тем, чем ближе к городу, тем веселей прикрикивали на лошадей, тем звончей звонили колокольчики, — и весь наш мрачный, обремененный черными мыслями поезд с свистом и гарканьем мчался в какую-то темиуш даль неизвестного,
Приехали мы поздно вечером и остановились в лучшей гостинице города. Ямщикам дали рубль на чай я велели приходить завтра поутру, в девятом часу. По удалении их немедленно потребован был чай и ужин в самых широчайших размерах: вся прислуга в гостинице сбилась с ног, подавая то то, то другое. Все суетились, норовили услужить, угодить, наперерыв друг перед другом: умерло крепостное право, но не умер барин, умеющий «барствовать», и лакей, умеющий угодить барину.
Под конец, этого ужина мне стало страшно за всех их и, признаюсь, частью даже жалко. Но утром я решился объявить им о том, что оставлю место. Однако, проснувшись в девять часов, я уже не нашел ни папы, ни мамы. Мальчики в одних рубашонках и босиком выглянули ко мне из другой комнаты с веселым утренним смехом и скрылись назад, толкая и щекотя друг друга и шлепая по голому полу босыми ногами. «Они ушли!..» — отвечали мне они все трое из спальни и вновь принялись смеяться и хохотать, толкать друг друга и бросаться подушками… В коридоре, куда я вышел, чтобы попросить принести чаю, толкались два мужика, выражая на лицах напряженное ожидание и держа шапки в обеих руках, как бы приготовляясь напялить их на голову и уйти, конечно получив деньги. «Скоро ли придут господа?» — спросил я у лакея. «Ничего не изволили сказать-с… Надо быть, скоро; ямщики вон вчерашние их дожидаются… велели прийти». И, оставив поднос на столе, слуга удалился, на этот раз, как мне показалось, уже с оттенком недоверия во взгляде. Дети кой-как оделись и принялись за чай. Глядя на их шершавые, запущенные головы, их неряшливость, неразвитость, мне стало очень жаль их; но делать было нечего, надо было идти. «Я пойду, — сказал я детям, — а вы побудьте смирно. Я попрошу к вам девушку; если что будет нужно, спросите у нее». — «Мы привыкли одни! — отвечали дети хором. — Только вы приходите скорей».