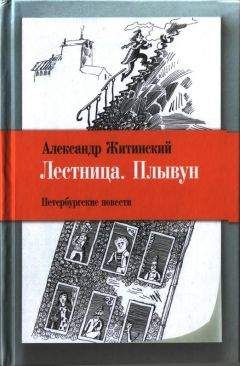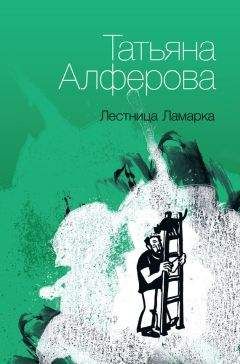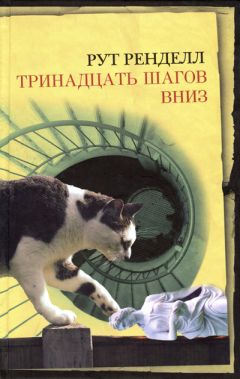Александр Пушкин - Том 6. Художественная проза
Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.
Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.
Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.
На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне;— надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.
Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»
Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле*». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». — «Ах! мой батюшка! — возразила комендантша;— да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».
Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, — отвечал он;— Василиса Егоровна выведала всё от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что всё так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин;— вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» — И мы расстались, как ни в чем не бывали.
Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию, и благополучием тех, которые… Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч».
— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?
— Да так… он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.
— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?
Марья Ивановна заикнулась и покраснела.
— Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь.
— Почему же вам так кажется?
— Потому что он за меня сватался.
— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?
— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.
— И вы не пошли?
— Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться… Ни за что! ни за какие благополучия!
Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.
Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке… В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.
Глава V
Любовь
Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.*
Песня народная.Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.*
То же.Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? Каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Всё в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом;— всё без памяти, вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу, — отвечал я слабым голосом, — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне…» — я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился! — повторял он. — Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..»
Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.
Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее… и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на мое счастие». — Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла всё мое существование.