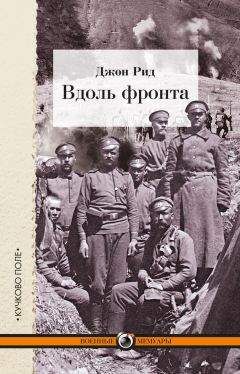Николай Гейнце - Под гнетом страсти
Все происшедшее его несколько смутило, но он кончил, однако, тем, что сказал про себя:
"Что же, тем лучше! Я этого не хотел, но зато это меня избавило от разговора с этим милым созданьем".
Затем он подумал о том, какую досаду он причинит Анжелике, когда та узнает, что ее дочь была у него, а он ее не принял.
Не зная, что рассвирепевшая мать соблазненной им дочери могла предпринять против него, и будучи уверен, что она способна на самую страшную месть, он решился опередить ее, обезоружить возвращением ей дочери и, кроме того, доказать своему старому товарищу, что у него нет недостатка в характере, в чем тот осмелился усомниться.
Барон продолжал любоваться лежавшей.
— Ты ошибаешься, — обратился к нему Сергей Сергеевич, — и сейчас же в этом убедишься. Пойдем!
— Куда? — бросил на него удивленный взгляд Клинген.
— Отсюда…
— Но как же она? — указал барон на Ирену.
— На то у меня есть люди! Они приведут ее в чувство и отвезут обратно к ее матери, — ответил деланно небрежным тоном князь и опустил портьеру.
— Неужели ты на самом деле хочешь… но ведь она прелестна… бормотал барон, отходя вместе с Облонским от задрапированной двери будуара.
Князь, не отвечая, подошел к письменному столу и три раза нажал пуговку электрического звонка.
Через мгновенье в кабинете появился сияющий своей победой Степан.
Взглянув на своего барина, он положительно обмер.
Выражение лица князя, малейшую игру физиономии которого он изучил досконально, было для него и неожиданным, и не предвещало, вдобавок, ничего хорошего.
Самодовольная улыбка мгновенно исчезла с лица верного слуги, и оно вновь стало бесстрастным.
— Что же это значит? — обратился к нему князь, кивнув головой в сторону двери, ведущей в будуар.
Сообразительный Степан не решился отвечать в присутствии барона, которому низко поклонился, не зная, в каком смысле рассказал его сиятельство своему другу свои отношения с находившейся в будуаре гостьей.
Он молчал.
Князь, видимо, остался доволен его поведением и продолжал менее суровым тоном:
— Передайте швейцару и лакеям и запомните сами, чтобы без доклада никто, за исключением барона, — Сергей Сергеевич бросил взгляд в сторону последнего, — не смел проникнуть ко мне. Я этого не потерплю, и виновный получит тотчас же расчет.
Камердинер почтительно поклонился.
— С появившейся так неожиданно для меня в моем, будуаре дамой сделалось дурно. Потрудитесь вместе с горничной привести ее в чувство и в моей карете отвезите ее обратно к ее матери — Анжелике Сигизмундовне Вацлавской с моей запиской.
Князь сел к письменному столу и стал писать. Степан, произнеся лаконическое "слушаю-с", продолжал стоять в выжидательно-почтительной позе.
— Идите же скорей!
За запиской зайдете после. Камердинер вышел.
Сергей Сергеевич наскоро набросал следующее письмо:
"Милостивая государыня!
Ваша дочь без всякого, с моей стороны, приглашения вернулась ко мне, разыграла нежную сцену, доказавшую, что к ней не только перешла красота, но и ум ее матери, и даже упала в обморок. Не желая вторично причинять вам "материнского" горя, посылаю ее к вам обратно.
Известный вам С. О.".
Едва он успел вложить это письмо в конверт и сделать на нем надпись, как в кабинете снова появился Степан, приведший с помощью жены одного из княжеских лакеев, исполнявшей в холостой квартире Сергея Сергеевича немногочисленные обязанности горничной, в чувство Ирену Владимировну, которой первые слова, когда она очнулась, были:
— Пустите меня домой!
— Карета готова! — поспешил ответить Степан и отправился за письмом в кабинет князя.
Уйдя от князя Облонского, Анжель не вернулась тотчас домой.
Ей страшно было видеть в эту минуту свою дочь, ей стыдно было передать Ирене, с каким оскорбительным презрением этот любовник дочери осмелился выгнать мать, приказавши, вместо ответа, лакею вывести ее.
Она заранее знала, что все случится именно так, за исключением неожиданного для нее открытия, что дочь ее замужем за человеком, презираемым ею всеми силами ее души, — за этим низким Перелешиным.
Эта мысль холодила ей мозг. Что же касается до приема вообще, то более вежливый не был ни в ее расчете, ни в ее желании.
Если она, эта гордая, невозмутимая и неумолимая женщина, в которой никто никогда не замечал ни малейшего признака чувствительности, отступления от раз принятого решения, которую никто не видал когда-либо плачущей, теперь унижалась, валялась в ногах перед этим человеком, то это только потому, что она ради своей дочери хотела до конца выпить чашу оскорбления, для того, чтобы потом иметь право не отступать ни перед каким средством для достижения своей цели.
А цель эта теперь была месть!
Теперь она думала, что преимущество на ее стороне, а потому считала себя вправе поступить, как ей угодно. Она чувствовала также, что стала еще хуже: никогда еще ее существование не казалось ей так глубоко потонувшим в грязи.
Вот почему она и не была в состоянии тотчас же видеться со своей дочерью. Степан, привезший Ирену, не застал дома Анжелики Сигизмундовны, чему в душе был очень рад, так как свиданье с ней далеко не было по его вкусу, особенно при том мрачном настроении, в котором он находился после данной ему князем головомойки, вместо ожидаемой им благодарности.
Он поспешил передать молодую женщину встретившей их в передней Ядвиге, которой вручил и письмо.
Ирена приехала все еще в полубессознательном состоянии.
При виде старушки-няньки, она вспомнила свой поступок, свое бегство во второй раз из-под ее присмотра со всеми его последствиями, и снова лишилась чувств.
В это время вернулась Анжелика. Ядвига указала ей на Ирену, лежавшую без чувств на диване, на который сильная старуха перенесла ее на руках, и передала письмо князя.
Анжелика Сигизмундовна прочла, и вся кровь бросилась ей в голову.
"Подлец, он ее обесчестил, погубил, а теперь хочет убить!"
Она быстро приблизилась к своей дочери и стала приводить ее в чувство вместе с Ядвигой.
Когда Ирена очнулась и села на диване, Анжелика Сигизмундовна не удержалась и воскликнула:
— Ты опять пошла к нему, к этому бессердечному негодяю! О, несчастная, ты губишь себя сама!
Она стала подробно описывать сцену, которую выдержала в кабинете князя.
— Он обманул тебя еще подлее, чем я думала, он обвенчал тебя с достойным его сообщником, таким же подлецом, как и он сам, с Перелешиным, а ты скрыла от меня, что ты венчалась…
— Венчалась!.. — повторила Ирена каким-то загадочным тоном.
Она вспомнила.
Обморок повторился в третий раз.
Он был настолько сильнее предыдущих, что думали, что она умерла. Но это был не более как повторившийся столбняк, бывший с нею в Париже, продолжавшийся, однако, теперь только тридцать шесть часов, и от которого она очнулась, благодаря внимательному уходу и медицинским средствам, данным доктором Звездичем, приглашенным в ту же минуту.
Безмолвное отчаяние Анжель было ужасным.
— Она очень опасна? — спросила она доктора.
— Не сумею вам ответить, — отвечал он, покачивая головой. — Я одинаково боюсь ее пробуждения, как и ее нервного сна, так похожего на смерть.
— Почему?
— Она может проснуться сумасшедшею.
Анжелика Сигизмундовна сжимала свою голову похолодевшими руками.
Она думала, что сама сойдет с ума, и на самом деле была близка к этому. Действительно, Ирена проснулась в бреду. С ней сделалась сильнейшая горячка, осложнившаяся воспалением мозга. В продолжение двух недель происходила страшная борьба между наукой и болезнью, молодостью и смертью.
В продолжение двух недель Анжель не покидала изголовья своей дочери, только изредка позволяла себе отдохнуть и позабыться сном на кресле возле кровати.
Ядвига чередовалась с ней, чтобы дать ей возможность хоть немного успокоиться.
Через две недели, увы, смерть одержала победу — Ирены не стало.
Она угасла, не приходя в сознание. Из ее отрывочного, бессмысленного бреда можно было заключить лишь, что ее воспаленный мозг тяготит одна идея — о ее замужестве с князем.
Когда вместо единственной любимой дочери, которой Анжелика Сигизмундовна посвятила всю свою преступную жизнь, перед нею вдруг очутился лишь похолодевший труп, ни одна слезинка не вылилась из почти остановившихся чудных глаз этой загадочной женщины и лишь на мраморно-бледном лице ее появилось выражение непримиримого озлобления, да так и застыло на нем.
Она несколько времени пристально глядела в полуоткрытые глаза покойницы, затем почти спокойно тщательно закрыла их и отошла.
XIX