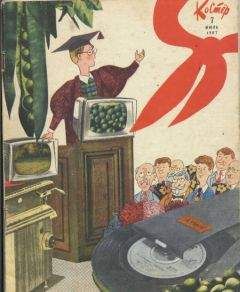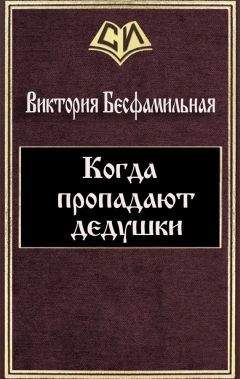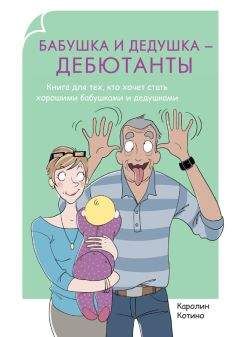Александр Бестужев-Марлинский - Сочинения. Том 2
Нил Павлович сперва лишь качал головою; потом стал пожимать плечами, а наконец без шуток начал журить Правина за его небрежение к службе.
— Я предсказывал тебе, — говорил он не раз, — что, кто начнет кривить против долга честного человека, против связей общества, тот, конечно, не минует забвения обязанностей службы. Полно ребячиться, Илья: твоя связь не доведет тебя до добра; ты можешь в эту игру проиграть здоровье и доброе имя, — кто знает, может быть самую жизнь; а что всего хуже, ты погубишь с собою и княгиню… это прелестное создание, которое стоит лучшего света и чистейшей судьбы. Грешно человеку с душою вербовать ее в дружину падших ангелов.
Правин сперва оправдывался — ссылался на пример других, на силу своей страсти. Потом он отыгрывался шутками; наконец, стал молчать и сердиться. Советы друга ему наскучили, выговоры его досаждали ему. Не желание блага, а тщеславие своего превосходства находил он в прямизне Какорина. Его строгость называл он бесчувственностью, его неуклончивость — гордостью. Такова бывает участь всех тех, которые не поблажают нашим слабостям, которые дают лекарство, не обмазав медом края стакана. Мы терпеть не можем людей, которые угадывают наши тайные помыслы и дают им клички по шерсти; для нас обидно, когда собственная совесть заговорит чужими устами. Кстати ли послушаться кого-нибудь! Да что я за ребенок? Да я разве не знаю, что делаю? У каждого свой ум-царь в голове! Я не люблю плясать по чужой дудке… Самолюбие засыплет подобными пословицами, уколи его хоть булавкою. Холодность и принуждение разрознили старых друзей. Правин забыл, что с Нилом Павловичем делил он и детские забавы и опасности мужества; что его попечениям обязан был если не жизнию, то здоровьем, ибо, жестоко раненный под Наварином, за что произвели его после в капитан-лейтенанты, он целый месяц не мог двинуться, а Нил Павлович во все время его выздоровления не спал ночей, предупреждая все его желания и нужды, снося его причуды.
О! любовь — чужеядное растение… Оно скоро разрастается по сердцу и скоро выживает вон все другие чувства!
Между тем, несмотря на бури, несмотря на ветры, несмотря на умышленные замедления ходу от капитана, давно остались назади дебристые острова и гранитные скалы Финляндии, рыцарский Ревель, коего шпицы и башни вонзаются в небо, словно копья великанов, и другой страж, противоставший ему с берега Швеции, — Свеаборг, опоясанный тремя ярусами батарей. Побывав в Копенгагене, пролетев Зунд, оставив Гельсинор за собою, фрегат миновал грозные утесы Дернеуса, крайнего мыса печальной Норвегии, и вошел в Немецкое море. Наконец Норд-форландский маяк, как звезда Венеры, блеснул ночью над зыбями… «Англия!» — радостно закричал матрос с форсалинга[145]; но этот блеск, этот звук зловеще поразили чувство обоих любовников… они сказали им близкую разлуку!
Князя Петра уговорили выйти на берег в Плимуте. Фрегату способнее было там освежиться, чтобы оттоль прямо спуститься в океан. А князю из Плимута до Лондона предстояло любопытное путешествие, избавлявшее его от лишних хлопот нарочно ездить посмотреть Англию и возвращаться обратно. Итак, фрегат несся по Ламаншскому каналу, ловя, так сказать, лишь пену видов Англии и Франции. Кале и Дувр мелькнули как сон; скрылся и Спитгид, подобный вдали дикобразу от множества мачт, и Вайт — изумрудный перстень Англии. Берега Пертшира бежали, и наконец завиднелся Эддистонский маяк, истинный геркулесов столб, вонзенный рукою человека в подводную скалу. Величавый памятник воли — не той тиранской воли, которая воздвигла бесполезные пирамиды в бесплодных песках Египта, но воли благотворной, хранительной, которая зажигает для пловцов новые звезды, чтобы они, подобно оку провидения, неусыпно стерегли и блюли от гибели тысячи кораблей. Вправо открылся Плимут, славный своим портом, который защищен недавно великанским волнорезом (breakwater) от бурь океана. Англичане велики в полезном.
Но чудесность этого волнореза, но богатство города, но прелесть окрестностей и новость предметов не утешали любовников, которым каждый дом, каждый шаг на земле напоминал: вам должно расстаться! И наконец час разлуки пробил. И, наконец должно было сказать «прощайте» — слово — задаток терзаний разлуки; слово, которое, как железный гвоздь, вытягивается в бесконечную проволоку, в струну, из которой каждый повев ветра извлекать будет звуки печали. Должно было проститься, и проститься не так, как любовникам, как супругам, на груди друг друга, растворяя горесть слезами, иссушая слезы лобзаниями, — нет! должно было проститься поклоном, при опасном свидетеле, задавить слезу улыбкою, задушить вздохи приветами, желать счастья, нося ад в груди своей. И этот ад всегда удел тех, которые закладывают душу свою за чужое счастье, которые украдкою рвут плоды Эдема. Настоящий владетель снимает с них счастье, как праздничный кафтан с своего раба, и он не смеет молвить слова. Он прячет в сердце и поминку о том, будто краденую вещь; он краснеет благороднейшего чувства, как низкого поступка. Правин не помнил, как он вышел из комнат князя Петра. Он очнулся уже на фрегате, при клике боцмана: «Якорь встал!», которому отвечало громкое «ура» шпилевых[146]. В руке его замерла карточка, всунутая в его руку княгиней Верой при расставанье. Но прежде чем прочесть ее — он прильнул к ней устами.
VI
Sic volo, sic jubeo, — sta pro ratione voluntas!
Juvenal[147]Тихо катился фрегат «Надежда» вдоль берегов Девоншира. Колокольни Плимута и лес мачт его гавани врастали в воды. Живописные местечки, цветущие деревни являлись и убегали, точно в стекле косморамы… Даль задергивала предметы своею синевою. Свежестью осеннею дышала земля; мирно было все в небе и на море; но вдали серые облака заволакивали кругом горизонт, широкая зыбь грозно катилась в пролив, и западные склоны ее волн, встающие все круче и круче, предсказывали крепкий ветер с океана.
Вечерело. Нил Павлович, ворча что-то про себя, с заботливым видом поглядывал на туманное небо и на тусклое море, — он стоял на вахте.
— Не прикажете ли, капитан, убрать наши чепчики, то есть брамсели, разумею я, а вслед за ними и брамстеньги? — спросил он Правина.
— Прикажите, — отвечал тот равнодушно. — Хотя я не вижу в этом большой нужды; посмотрите-ка: паруса наши чуть не левентих[148].
— Конечно так, — возразил Нил Павлович, немного уколотый таким замечанием. — Теперь пузо[149] наших парусов как передник десятилетней девочки; зато взгляните, как надуло свое море! Этакая прожора! этакой Фальстаф земного шара! Оно готово скушать и нас без перцу и лимонного соку! Прислушайтесь, как стало оно ворчать и разевать пасть свою!.. Нет, погоди ты, морская собака; мы еще не довольно грешны, чтобы познакомиться с твоею утробою, не исповедавшись на Афонской горе. Не придержать ли, капитан, круче к ветру, чтобы до ночи удалиться от берегов?
— Нет, Нил Павлович, мы спустимся в океан не ранее как обогнувши мыс Лизард, чтобы, забравшись выше, далеко миновать бурливую Бискайскую бухту. До той поры держаться надо параллельно берегу.
— Чтоб не прижало нас волнением к бурунам… Каменный утес — плохой сосед деревянному боку.
— Кажется, Нил Павлович не перешел еще меридиана жизни, за которым и самую робость величают осторожностию.
— Одной осторожностию больше — одним раскаянием менее, капитан!
— Риск — дело благородное, Нил Павлович! Не с вами ли ходили мы на гнилом решете между ледяных гор Южного океана, — и боялись ли тогда идти все вперед да вперед? Бывало, сменившись с вахты, чуть заснешь — смотришь, выбросило из койки, а сквозь пазы хоть звезды считай. Что такое? Стукнулись о льдину… течь заливает трюм, качка тронула из гнезда мачту! Да тонем, что ли? «Нет еще», — отвечают сверху. И мы засыпали опять богатырским сном.
— Это правда, капитан: мы засыпали, но это было оттого, что вы не были командиром судна, а я первым лейтенантом, как теперь. На нас не лежал ответ даже за свои души, нам с полгоря было тогда тонуть, не раскрыв даже одеяла, боясь простуды. Теперь иное дело: от нас Бог и государь требуют сохранения корабля и людей.
Капитан не слыхал окончания этой речи: он уже в глубокой думе стоял на подветренной сетке, устремив свои очи на волны.
Какое странное действие производят они на воображение тронутого человека. Игра их отражается в нем будто в зеркале. Самые мечты его колышутся, возникают, опадают в нем вещественно и, не образуясь ни во что определенное, сливаются с морем, не оставив по себе следа. Так было и с Правиным. Любовь его была глубока как море, кипуча как море, сердце его было на время оглушено разлукою, и оно очнулось лишь тут; оно пробудилось, как младенец, подкинутый безжалостною матерью к чужим воротам зимою, — и первый звук, из него вырвавшийся, был болезненный крик отчаяния. Нерассветающий мрак, убийственный холод — вот что отныне будет его тюрьмою и пыткою. Люди не сохранят для него в гостинец ни одной радости. Уединение не даст ни одной светлой мысли. Опустошает, как Тимур-ленг, душу разлука, душу человека, одаренного мыслию и чувством! Он отчуждил ее, он перелил ее в бытие милой, он сплавил свои мысли с ее мыслями, свои чувства с ее чувствами. Как чудные близнецы, сердца их срослись в одно целое, — и вдруг это целое разорвано, разбито, разброшено судьбою. Такой человек теряет вдруг все, потому что он все отдал; он не верит надежде, потому что забрал слишком много у прошлого, потому что он в часах истратил годы счастия. Лишь одно воспоминание вползает в развалины, как змея. О воспоминание! ты льешься тогда горючими слезами из очей, каплешь кровью из сердца. Разлука встает между любящимися, будто ледяная стена, и на ней, словно в волшебном фонаре, изображается в тысяче видах все былое. Вторится каждая прелесть, каждое слово неги и нежности! Чародей, она воскрешает ласки, уносившие нас до восторга, утоплявшие нас в небесном самозабвении, зажигает вновь взоры и поцелуи, и когда на устах разгорается жажда лобзаний, когда кровь пышет, когда сердце рвется слиться с другим в пламени взаимности, — рука, и уста, и сердце встречают лед, и мечта тонет в мерзлой реке, подобно голубку, опаленному пожаром. Тогда, о, тогда невольно рождается вера в злое начало, в самовластие Аримана, в силу ангела тьмы! Кажется, чувствуешь тогда его мертвящее дыхание, видишь во тьме его злобные очи, внемлешь его адский смех за собою.