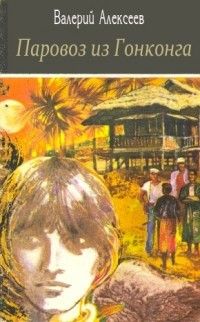Валерий Алексеев - Паровоз из Гонконга
Дядя Сережа и мама Люда принялись ставить на конвейер один чемодан за другим.
- Этот откройте, этот тоже откройте, этот тоже, - командовала таможенница и вдруг, раздосадовавшись, воскликнула:
- Нет, это просто безобразие! Открывайте все подряд.
Иван Петрович в растерянности стоял по ту сторону барьера, держа в руках невесть откуда взявшиеся ножницы, ножницы тоже растерянно раскрыли рот.
- Да, да, и веревочку режьте, и веревочку, - сказала таможенница. Не я же буду это делать.
Она вышла из-за своего пульта и направилась к Ивану Петровичу.
Людмила побежала следом.
- Что безобразие? Почему безобразие? - на ходу повторяла она.
- Безобразие вести с собой целый продовольственный склад, - строго ответила ей таможенница. - Вынимайте!
- Это возмутительно! - в отчаянии выкрикнула Людмила. - Это издевательство над пассажирами! Я буду жаловаться!
- Володя, - обратилась чернобровая таможенница к напарнику, невозмутимо стоявшему за соседним телевизором. - Позови начальника смены, гражданочка хочет жаловаться. Будем с рейса снимать.
- Мама! - грубым низким голосом крикнул Андрей. - Перестань! Должно быть, мама Люда и сама поняла, что занимает проигрышную позицию.
- Послушайте, женщина, - тихо сказала она таможеннице, пристиснутые кулачки к груди, - товарищ диспетчер, это ж питание, у нас двое детей, пожалейте!
В глазах у нее и в самом деле заколыхались слезы.
- Куда летите? - сухо спросила таможенница. - Ах, да... Это не я, это вы своих детей не жалеете. Для чего вы с ними? Зачем?
Андрей затравленно обернулся. Дама и девушка с ирисами, свободные от всего земного, стояли вдалеке, по ту сторону весов. Они смотрели на Тюриных и злорадно, торжествующе хохотали. А может быть, и не хохотали: выражения лиц на таком расстоянии невозможно было разглядеть.
Оттуда крикнули:
- Кто там остался на досмотре? Побыстрее нельзя?
- Ладно, ступайте, - помедлив, проговорила таможенница. - Но в следующий раз...
- Спасибочко вам! - воскликнула Людмила и тут же, понизив голос, спросила:
- Мы из Щербатова, может, слышали? Небольшой сувенирчик на память... о нашем городе...
- Уходите с моих глаз немедленно! - грозно сдвинув брови, сказала таможенница. - И чтоб я вас здесь больше не видела!
И мама Люда, всхлопнув локотками, побежала.
- Что, получила? - гневно отчитывал ее, едва поспевая за нею, Андрей. - Взяткодательница! Позорница ты! Сорока-воровка! Скажи спасибо, что пощадили твою глупую голову!
Анастасия, точно клетчатая кукла, покорно тряслась у Бати на руках, мама Люда в распахнутом бордовом пальто, шагая слишком крупно для своего роста, резкими, как робот, рывками катила тележку с растормошенными баулами, в стороне отец, словно маневровый паровоз, толкал впереди себя сразу три тележки...
Тюрины бежали наискосок по просторному залу с плавающими потолками, скрытыми источниками света и совершенно межпланетными указателями, которые, требуя к себе внимания, выразительно, как глухонемые, гримасничали и, казалось, на все лады призывно мычали. Медные трубы глядели на Тюриных сверху, то ли укоризненно выпятив губы, то ли округлив от деланного удивления глаза... Скорее, скорее, скорее, торопил себя Андрей. Чтобы эта пытка стыдом поскорее окончилась (не могла же она продолжаться бесконечно), нужно было совершить над собою усилие, а какое именно - он не знал.
И вдруг это случилось само собою: время и пространство схлопнулись вокруг него, как фотокамера с черной гармошкой, мама Люда и Настя, вспорхнув, исчезли, сгинули и постылые тележки с багажом, и Андрей увидел себя стоящим возле отца в узком шкафчике паспортного контроля. Было тесно и холодно, дул темный ветер с тревожным запахом эскалаторной резины. Оба, старый и малый, тряслись от волнения, словно преступники, намеревающиеся совершить угон. Если при этом применялись нательные датчики, полиграф, несомненно, показал бы: виновны. И в самом деле, отец и сын охвачены были в эту минуту могучим чувством вины перед своим государством... вот только в чем заключалась эта вина они не могли бы высказать ради спасения души.
Но никаких детекторов лжи в том шкафу не имелось. Чистенький молодой пограничник, сидя за стеклом, поднял ярко освещенное лицо, внимательно и странно посмотрел сперва на сына, потом на отца и, выложив на полочку их общий паспорт, негромко сказал:
- Проходите, пожалуйста. Следующий.
Тюрины вышли в длинный односветный зал, окнами глядевший в пасмурную сторону неба, на фоне которого леденисто белели самолеты с высокими хвостами. В широких креслах, просторно расставленных по всему залу, расслабленно и покойно расположились люди. Кареглазку и ее мамашу видно было издалека. Обе ярко-желтые, расшитые, точно камергерши какого-то птичьего двора, они сидели напротив входа, одинаково сдвинув колени, хотя брючная мать могла бы этого и не делать, но она, должно быть, показывала пример дочери, юбка которой и на четверть не прикрывала ее мощные взрослые бедра. "Москва", - сказал бы любой мальчишка в Щербатове, где все большое и красивое называли именно так. "Гля, красноперку какую вытянул! Москва!" Впрочем, дама не снисходила до того, чтобы смотреть по сторонам: она читала журнал "Иностранная литература", держа его несколько на отдалении и как будто мысленно произнося текст нараспев и в нос. Кареглазка через голубую соломинку пила из бутылочки пепси-колу и бездумно глядела своими яркими глазами на сидящих, стоящих и прогуливающихся по залу пассажиров. Британский агент куда-то исчез: выполнял, должно быть, разведывательно-диверсионную работу.
И тут Анастасия, терпевшая все утро, не выдержала.
- Мы уже приехали? - спросила она рыдающим голосом, обнимая своего Батю за шею. - Знаю, знаю, все я знаю!
Никто, и Батя в том числе, не понимал, что творится в бедной этой головке. "Большой лопух", явившийся из недопонятой телепередачи и широко раскрывший сочный рот где-то за дверью, был одновременно и плотоядным цветком, и желтой женщиной с ирисами, и приемным покоем: Настя, лежавшая прошлый год в январе с дифтеритом, терзалась подозрением, что все это громоздкое мероприятие затеяно с единственной целью - обманом завезти ее в инфекционную больницу.
- Мама, у нее начинается, - сказал Андрей, чувствуя, что сестренка все крепче прижимается к нему своим трясущимся тельцем. - Закачивай, пока не поздно!
Людмила схватила Настю на руки и принялась исступленно трясти, часто и резко наклоняясь вперед, точно кланяясь проносящимся перед нею вагонам. От прически "Николь" не осталось даже воспоминаний: теперь это была просто влажная спутанная грива неровно подстриженных темных волос. Многие сидевшие в зале заинтересовались этими телодвижениями. Кареглазка тоже долго и сосредоточенно глядела на Людмилу Павловну, покусывая свою голубую соломинку, потом досадливо шевельнула плечом и отвернулась. Так москвичи смотрели вчера, когда на раззолоченной станции метро появились в своем пестром тряпье цыгане...
- Ванюшка, - прошептала Людмила, не переставая кланяться, - а как же Сережа и Клава? Надо с ними попрощаться!
Иван Петрович всплеснул руками, заметался, побежал назад, к барьерам зоны спецконтроля, и возвратился, растерянно улыбаясь:
- Поздно, Милочка. Оказывается, мы уже пересекли государственную границу.
Последние слова его покрылись черным ревом, по стеклам высоких окон до самого потолка пробежала мелкая дрожь - и словно льдина откололась, толсто повторяя очертания госграницы, и медленно сдвинулась с места, оставляя за полоской темной воды и "маму-коку", и дядю Сережу, и чернобровую таможенницу с ее интроскопом, и обросшие лопухами желтые заборы Щербатова, и большую, лиловую, продроглую Москву...
4
Вождь всемирной герильи еще ни разу в жизни не летал на самолете: некуда было, даже к "тете Монаше" в Новороссийск он ездил на поезде. Поэтому, оказавшись в длинной алюминиевой трубе, сплошь уставленной рядами зачехленных кресел, он оробел, ноги его стали подгибаться, как будто вылеплены были из теплого пластилина. Все вокруг, от ребристого потолка до глухо подрагивающего пола, неумело прикрывало угрозу, страшно пахнущую кислыми леденцами. Полукруглые спинки кресел незряче белели, словно лица погибших и давно позабытых людей. Ступни ног неприятно покалывало, как во сне, когда чудится, что падаешь с большой высоты. Мальчик остановился в проходе и, подталкиваемый сзади нетерпеливыми пассажирами, даже обрадовался, когда перехватил взгляд Кареглазки, которая, сидя у иллюминатора, спокойно за ним наблюдала. Кукольно-красивое личико ее было так восхитительно невозмутимо, она так уютно устроилась в кресле с высокой спинкой, что Андрей устыдился своего страха.
- А вот и Ба-атя наш идет! - услышал он воркующий голос мамы Люды. Скажи ему, доченька: "Иди к нам, Батя!"
Мать с сестренкой сидели через ряд позади Кареглазки и глядели на него снизу вверх, как из снежной ямы: мама черненько и умильно смеялась. Настя - запрокинув бледное, страдальчески улыбающееся лицо. Кепку с нее мама Люда уже сняла, сверху виден был жесткий пробор в ее туго натянутых белесых волосенках.