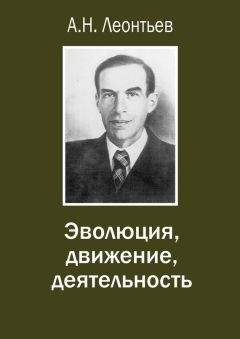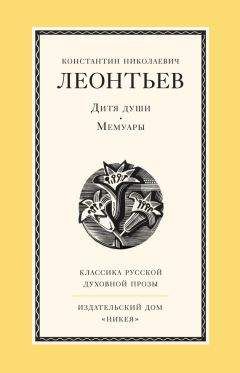Константин Леонтьев - Сутки в ауле Биюк-Дортэ
— Он мне не нравится, — сказал Муратов, — я не обманулся в предчувствии. Удивляюсь, как это ты, который всегда мечтал еще с детства быть военным и гордился патриотизмом... Помнишь, как ты подойдешь, бывало, к карте и сейчас: «эх, матушка, Россия, как раскинулась!»
— Помню, помню... Эх, времена! А помнишь, голубчик, как Ястрембицкий за мной гонялся, когда я ему из риторики: «бледнеет галл, дрожит сармат»... Здоровая, шельма! колотил-таки меня... Не знаю, куда он делся. Я и теперь все тот же, голубчик...
— При твоем направлении я бы счел за обязанность осадить его на первом шагу... Ты, я вижу, в убеждениях шаток... Какой же ты русский?
— Я уже давно до него добираюсь!
К обеду явился деятельный доктор и оживил компанию.
— Поздравляю вас, — сказал он, обращаясь к Муратову, — ваш ополченец в улучшенном состоянии... Через два-три часа я надеюсь отвечать за него... Вот мы как, мсьё Житомфский! Что вы скажете? Возбудили реакцию, восстановили дыхание, кровообращение в волосной системе, возвысили температуру кожи, словом... — Тут он улыбаясь, махнул рукой.
Житомiрский обнял его.
— Да вы известный докторище; что тут толковать! В вашем присутствии я и голову не побоялся бы потерять.
— Ой ли? — спросил плут.
Доктор придавал каждому обыкновенному слову своему какую-то двусмысленную глубину посредством хитрых и пристальных взглядов, улыбок, телодвижений и т. п.
Потом, обратясь снова к Муратову, он присовокупил с серьезным видом:
— Быть может, у него разовьется тифозный переход, но это ничего! Главный вопрос: прекратить альгидный период...
— Эх, доктор! мало вам всех ваших альгидных, там, в госпитальной вони... Здесь что-нибудь повеселее надо!.. — воскликнул Марков, снимая со стены гитару, и тотчас ударил по струнам.
— Эх, душечка ты моя! — сказал докторчик, взяв за подбородок Маркова, — что ж я тебе спою? Разве это...
Ах! тетушка Сидоровна,
Да высоко ноги закидывала! и т. д.
Все захохотали, потому что Шедоров с мясистым и большим лицом своим на маленьком теле был действительно забавен.
Но он вдруг состроил сладкое лицо, принял изящную позу, которая, по правде сказать, к его маленькой, сутуловатой фигурке мало шла, и запел глухо:
La donna immobile
— Ну, нельзя ли от итальянского избавить? — сказал Марков.
Доктор избавил от пения, но заговорил об опере, о Петербурге, об Излере. Видно было по всему, что он хотел блеснуть своей многосторонностью перед богатым ополченцем. Упомянул Житомiрский об отъезде Деянова с подругой, о разговоре, слышанном под окном, доктор сейчас же заметил вообще, что женщины есть очень чувственные, что его любила одна генеральша, которая даже укусила его в правое плечо, и предлагал показать рубец, если не поверят; потом, что его любила одна француженка, которая ему ужасно надоела тем, что цаловала его ноги.
Сказали, что Деянов очень увлечен, что он почти никого не посещает и даже мало говорит. Доктор заметил вообще, покачивая головой, что ныньче смешно так увлекаться, что ныньче-де век положительный, практический, батюшка, скептический. Кто ныньче увлекается?
Вдавался он в растянутые и вовсе не характеристические подробности и говорил без умолка битых часа три, пока смерклось. В рассказах своих он являлся попеременно то обольстителем женщин, то спасителем жизни и здоровья, то добрым, разбитным малым, там расстроивал неравный брак, в который хотел вступить добрый, но слабый идеалист-товарищ, там уничтожал одним появлением своим льва, вздумавшего толковать в гостиной о физиологии; там вправлял вывих, там спасал жизнь богатому графу и бедняку-писарю, обремененному семейством, декламировал стихи, представлял в лицах — словом, сверкал со всех боков, как искусно обточенное стекло, подражая алмазу.
Муратову наконец он опротивел вовсе, а главное, надоел; да и два другие собеседника под конец стали сумрачны.
— Пора к Тангалаки, — заметил Житомiрский, вынув часы.
— Идите, — сказал Федоров, — а я еще на минутку заверну посмотреть на своего больного... До свидания.
Марков уговорил Муратова не отказываться от предстоявшего вечера. — Я тебя представлю. Там будет куча народа сегодня.
Пошли.
— А каков наш докторчик? — спросил дорогой Марков.
— Много болтает и хвалится... А ума мало.
— Ума мало, — воскликнул Житомiрский, — он чрезвычайно умен, находчив, приятен в обществе, деятелен, словом, я мало встречал подобных людей. Вы еще не успели понять его...
— Конечно, — присовокупил Марков, — он очень умен; одного только не люблю: подобострастен шельмов-ски! Уж он не даст маху, найдет лазейку... Что-то я не люблю таких людей. Генерал Желтухин приезжал осматривать ***ский госпиталь, когда я там лежал. Ну, кто пальто с него снимал? — Федоров; кто стул подал? — Федоров. Я такому человеку пальца в рот не положу. Я не мастер, признаюсь, узнавать людей, а это видно! Но для кружка — золото.
У провиантского офицера нашли уже порядочную компанию.
Хозяин был из греков и звался Аамбро Панаиотович Тангалаки. Хотя в поправке его дел с началом войны не было той трогательной стороны, которая заставляла всякого радоваться на Житомiрского, имевшего престарелую мать и красавицу-сестру, но и он был ничего... Было верстах в пяти от Биюк-Дортэ имение одного немца Христиана Христиановича Крэгенауге, и четыре дочки его, Элие, Эсперанс, Китти и Шушу, находили Ламбро Тангалаки чрезвычайно любезным, милым и находчивым остряком.
И точно, он обладал удивительным свойством говорить самые смешные вещи, нисколько не улыбаясь.
— Да, ma chère, и не улыбнется даже!.. А мы просто умираем со смеха! Невозможно слушать его. Представь себе: у Шушу в церкви вчера снурок на корсете лопнул оттого, что она надувалась, чтоб от смеха удержаться...
Особенно мило умел он склонять и спрягать русские слова на французский лад.
Подсиживал ли кто в картах, медлил ли опуститься в воду на купанье, изобличал ли большую осторожность в верховой езде, он говорил сейчас:
— А, ву трусе боку!
И когда тот раздражался, он прибавлял:
— Ну, а если не трусе, так, может быть, дроже боку! Остроумие выкупало невзрачность его наружности; он был, к несчастью, мал ростом и до войны был зачичкан, худ и желчен, но теперь, слава Богу, поправился, подобрел, побелел и принужден был отдавать почти все свое платье портному для выпущения запаса. Чорные, как угли, фальшиво бегающие глаза, сверкали на довольно белом лице; точно как у морской свинки. В нем текла истинная эллинская кровь, потому что он сам говорил, что когда есть у него тонкое белье, цветы, куренье для комнаты и женщина (особенно рослая и полная), ему ничего больше не нужно.
Жилище его в Биюк-Дортэ было просторно и чисто, потому что дом принадлежал атаману и состоял из нескольких комнат, туда и сюда отворявшихся в низкие и темные сени. В самой большой собирались по четверкам часто на преферанс.
Народу было уже много, когда явились Муратов, Марков и Житомiрский: гарнизонный старик Киценко, худенький помещик из французов, Шаркютье, молодой чиновник с соляных озер, любимый всеми за простодушие и отвагу, и пр. Немного позже других явился многосторонний доктор.
Преферанс шел как преферанс; перебрасывались словами, дружески трунили, острили «трусе боку», «дроже боку»; Марков даже раз в ответ сказал «глупе боку». Все играли, как водится; только молодой чиновник говорил вместо «семь червей» «семь преферанс!»
Сыгравши две пульки, обратились к закуске, водке и вину; освежились и заговорили все разом. Естественно, сейчас же разговор зашел про войну.
— Я удивляюсь, — сказал молодой чиновник, крепко прижимая руку к сердцу и кокетничая глазами, — я удивляюсь... Я всегда говорю, что мне удивительны англичане... Ну, французы, это народ легкомысленный; они и начали эту войну; но англичане... Ведь им нельзя простить... Россия, по моему мнению, права...
Тангалаки взглянул на него отечески.
— Я вам говорил уже, — сказал он, — что такое Англия. Я называю ее глупым селезнем, который может действовать только на воде, а Россия — петух. Вообразите себе, что они дерутся... Конечно, петух не может достать селезня на воде; но всякий раз, как подплывет селезень к берегу, петух клюет в башку, и тот опять бежит...
— Да, сказывали, — перебил старик Киценко, — важно их отшпарили на штурме; как хватят с парохода — и ряда нет... Вот, ей-Богу!..
— Это пустое! — возразил Тангалаки, — что такое значит бить их из пушек? Пускай на рукопашную пойдет, тогда русский себя покажет. Никогда они ничего против нас не могут!..
Шаркютье улыбнулся.
— Послушайте, — заметил он с нежным акцентом и, как бы робея, углубился подальше в большое кресло, — зачем такое пристрастие? Вам, конечно, может, неприятно будет слышать, что я, который француз по фамилии, говорю против вас. Но вы знаете мой патриотизм... Я люблю Россию... я хочу только справедливости... Иногда поединок даже случался... Один пленный француз в Симферополе рассказывал мне, что его брат родной, зуав, надел однажды костюм пластуна и пополз ночью к русским батареям и, увидев вдруг другую тень, остановился... Эта тень тоже ползла и остановилась... Это был казак, одетый зуавом. И тот и другой думали встретить товарища. Подползли друг к другу и не могли объясняться. Они боролись в темноте среди молчания, и зуав обезоружил и привел в свой лагерь переодетого казака. Конечно, могло случиться и наоборот; но... неужели и этот пленный хвалился?