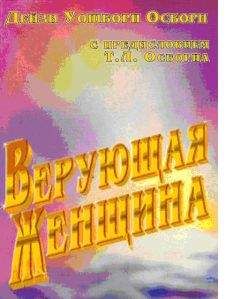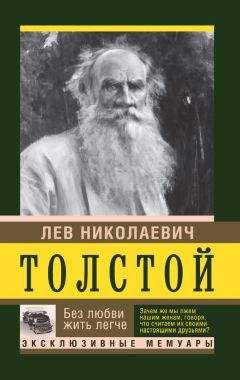Лев Толстой - Утро помещика
Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала, – как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала.
– Вот вам на хлеб, – сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию, – только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет.
Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтоб встать, и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.
IX
«Давыдка Белый просил хлеба и кольев», – значилось в записной книжке после Юхвана.
Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издалека увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.
– Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю…
– Где изволили быть, ваше сиятельство? – спросил Яков, защищаясь фуражкою от солнца, но не надевая ее.
– Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? – сказал барин, продолжая идти вперед по улице.
– А что, ваше сиятельство? – отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за барином и, надев фуражку, расправлял усы.
– Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится.
– Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался…
– И жена его, – перебил барин управляющего, – кажется, прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета; есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать – я решительно не знаю.
Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.
– Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, – начал он, – то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто как в городу на почте живал, то хмелем немного позашибется, так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь – он опять в свой разум приходит: и ему хорошо, и в семействе лад; а как вам не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют…
– Уж это оставь, Яков, – отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь, – про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об атом думаю; и что ты мне ни говори, я все так же буду думать.
– Конечно, ваши сиятельство, вам это все известно, – сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто то, что он видел, не обещало ничего хорошего. – А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно, – продолжал он, – оно, конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все такое; по ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась с снохой, та, может быть, ее и толкнула – бабье дело! и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать, – говорил управляющий, с некоторой нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча, большими шагами шел перед ним вверх по улице. – Домой изволите? – спросил он.
– Нет, к Давыдке Белому, или Козлу… как он прозывается?
– Вот тоже ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая. Чего-чего с ним не делал – ничто не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж что-что с ним ни делали и опекун и я: и в стан посылали, и дома наказывали – вот что вы не изволите любить…
– Кого? не-уже-ли старика?
– Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал; так верите ли, ваше сиятельство? хоть бы те что: встряхнется, пойдет, и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый мужик, и не курит-не пьет то есть, – объяснил Яков, – а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрюшка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? – прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его.
– Нет, ступай, – рассеянно отвечал Нехлюдов в направился к Давыдке Белому.
Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы.
Нехлюдов постучал в разбитое окно: но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распустив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.
Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое, – такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его.
Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный, влажный вздох изобличил хозяина.
– Эй! кто тут? – крикнул барин.
С печки послышался другой протяжный вздох.
– Кто там? Поди сюда!
Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина.
– Ну, что ж ты?
На печи медленно зашевелилось, показалась пола истертого тулупа; спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и наконец показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волоса, и тело, и лицо его – все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики, – то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его, с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с легким лиловым оттенком около глаз и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.
– Ну, как же тебе не совестно, – начал Нехлюдов, – середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..
Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал: но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать. Ну бейте же; коли так надо – я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно терпеливого молчания.